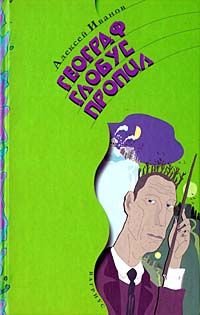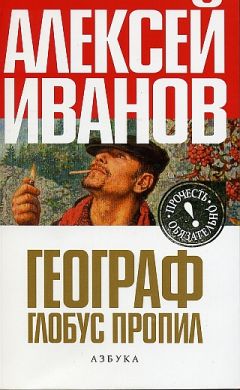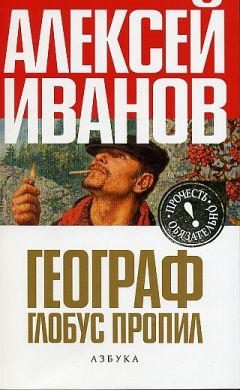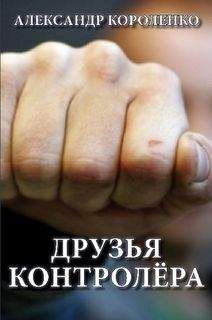Ознакомительная версия.
— Школа не воспитательный дом, я учитель, а не нянька, — возразил Служкин. — Когда в классе тридцать человек и все стоят на ушах, то нельзя скорректировать чье-то воспитание. Проще этих нескорректированных изгнать, чтобы остальных не перекорректировали.
— Вы сказали, что здесь не воспитательный дом, а школа? — разозлилась Угроза. — И вы, Виктор Сергеевич, считаете, что лучший способ обучения ребенка в школе — это выгнать его из класса? Странные у вас взгляды. Дети приходят в школу учиться, как вы заметили, а ваша задача — научить их. Как вам их учить — это дело вашего опыта и профессиональной подготовки, и ребенок не виноват, если вы таковых не имеете. В конце концов, вам за ваше умение государство платит деньги, а вы, если говорить объективно, просто прикарманиваете их, когда выгоняете ребенка за дверь. Я как завуч запрещаю вам подобные методы работы.
— Я понял, Роза Борисовна, — покорился Служкин. — А что, другие девятые классы такие же, как этот?
— Абсолютно.
— Что ж…— попробовал пойти на мировую Служкин. — Как говорится, первый блин комом…
— Нет, Виктор Сергеевич, — с ледяным торжеством осадила его Угроза. — Для школы такая установка неприемлема. Мы не можем себе позволить ни одного блина комом, тем более — первого.
После работы Служкин пошел не домой, а в Старые Речники. Район был застроен двухэтажными бревенчатыми бараками, похожими на фрегаты, вытащенные на берег. Прощально зеленели палисадники. Ряды потемневших сараев стояли по пояс в гигантских осенних лопухах. Служкин вышел на крутой обрывистый берег Камы и поверху направился к судоремонтному заводу. Высокая облачная архитектура просвечивала сквозь тихую воду реки. Алые бакены издалека казались рябиновыми листьями. Узкая дамба подковой охватывала затон. Под ветвями старых, высоких тополей на дамбе, отражаясь в коричневой, стоячей воде затона, застыли белые теплоходы.
Краснокирпичное, дореволюционное здание заводоуправления грозно вздымалось над крутояром, похожее то ли на Брестскую крепость, то ли на обвитое жилами могучее сердце древнего мамонта. У входа в гуще акаций заблудился обшарпанный Ленин:
В конструкторском бюро, увидев Служкина, приоткрывшего дверь, какая-то женщина крикнула в глубину помещения:
— Рунева, к тебе жених!
Служкин дожидался Сашу на лестничной площадке у открытого окна. Тихо улыбаясь, Саша прикурила от его сигареты. В ее красоте было что-то грустное, словно отцветающее, как будто красивой Саша была последний день.
— Чего ты так долго не заходил, Витя? — укоризненно спросила она. — Я по тебе так соскучилась…
— Закрутился, — виновато пояснил Служкин. — И школа эта еще…
— Школа, география…— мечтательно сказала Саша. — Ты, Витя, всегда был романтиком… Амазонка, Антарктида, Индийский океан… Вот уехать бы туда от всей здешней фигни — осточертело все…
Из затона донесся гудок корабля.
— Что у тебя новенького? — спросил Служкин.
— А что у меня может быть? Ничего. — Саша пожала плечами и вздохнула. — С соседями по малосемейке ругаюсь да картошку чищу…
— Как ухажеры? Рыщут?
— Какие тут ухажеры? — усмехнулась она. — Один какой-то в последнее время клеится, да что толку?
— Нету толка, когда в заду иголка, — подтвердил Служкин. — А кто он, твой счастливый избранник?
— Мент, — убито созналась Саша.
— Какой позор! — с досадой сказал Служкин. — А как же я?
Женщина, смеясь, уткнулась головой в плечо Служкину.
— Хорошо с тобой, Витя. — Она поправила ему воротник рубашки. — Рядом с тобой так легко… Расскажи, как там наши?
— Наши или ваши? — ехидно спросил Служкин.
Саша потерлась виском о его подбородок.
— Ваши хорошо поживают, — сообщил Служкин. — Развлекаются, обольщают, деньги делают. Вчера зашел к вашим и увидел у них под кроватью целый мешок пустых банок из-под пива — выбежал в слезах. Я тут недавно подсчет произвел: если мне не пить и не есть, а всю зарплату на машину откладывать, то я накоплю на «запор» через сто пятьдесят два года. А Наде, несмотря на весь ее меркантилизм, Будкин все равно не понравился даже со своим автопарком. Надя сказала, что он — хам.
— Твоя Надя — умная женщина, — согласилась Саша.
— А она говорит, что дура, потому что за меня замуж вышла.
— Ну и что, что Будкин хам. Я это знаю. Но сердцу не прикажешь.
— Все сохнешь? — серьезно, с сочувствием спросил Служкин. — Зря, Сашенька. Если для тебя на Будкине свет клином сошелся — так ведь клин-то клином и вышибают… Это большой намек.
— А я ему письмо написала…
— Угу. И я определен в почтовые голуби, — догадался Служкин.
— И это тоже…— смутилась Саша и достала из кармана сложенный вчетверо тетрадный листок. — Прочитай, пожалуйста, Витя… Мне очень важно знать твое мнение… Прочитай вслух.
Служкин хмыкнул, взял листочек из ее пальцев и развернул.
— «Я очень устала без тебя. Мне кажется, что наша ссора — недоразумение, случайность. Она возникла из пустяка. Если ты считаешь, что я виновата, то я согласна и прошу прощения. Ты мне очень дорог и нужен. Я тебя жду всегда. Приходи», — прочел Служкин.
Саша внимательно вслушивалась в звучание собственных слов.
— Лаконично и поэтично, — сказал Служкин, складывая листок и убирая в карман. — Дракула бы прослезился. Но не Будкин.
— Считаешь, это бесполезно? — вздохнув, печально спросила Саша и задумчиво добавила: — Но ведь надо же что-то делать… Хоть бы ты, Витя, запретил мне это… Я бы тебя послушалась, честное слово. Ты же мой лучший друг.
— Дружбы между мужчиной и женщиной не бывает, — назидательно изрек Служкин.
— Ты мне расскажешь, как он отреагирует на письмо?
— Расскажу, — согласился Служкин. — Хоть сейчас. Начинать?
— Недавно я Руневу встретил, — лениво сообщил Служкин.
— Где? — так же лениво поинтересовался Будкин.
— А-а, случайно, — сказал Служкин. — У нее на работе.
Оба они, голые по пояс, лежали на расстеленных газетах посреди крыши. Они загорали на отцветающем солнце бабьего лета и пили пиво. Между ними стояла трехлитровая банка и раскуроченная коробка из-под молока, заменявшая кружку. Над ними на шесте, как скелет мелкого птеродактиля, висела телевизионная антенна, которую они только что установили.
— Сашенька тебе письмо написала, — сказал Служкин.
— Не получал. Честное слово.
— Так она его через меня передала.
Служкин залез в карман джинсов, достал листочек и протянул Будкину. Будкин развернул его и стал читать, держа на весу перед глазами, солнцу на просвет. Читал он долго.
— Не ссорился я с ней, — сказал он, опуская письмо. — Это она на меня обиделась. Когда я последний раз был у нее, то всякие планы развивал, как зимой буду на горных лыжах кататься. А ее, естественно, не звал. Вот она и обиделась.
— А чего не звал-то? Трудно, что ли?
— Я бы позвал, так она ведь поехала бы, дура… А там одни ботинки, как «Боинг», стоят. Где бы она на все денег взяла? Явилась бы в каких-нибудь снегоступах на валенках… Меня бы там на базе все засмеяли.
Будкин приподнялся, выпил пива и повалился обратно.
— Так сходи к ней, — посоветовал Служкин.
Будкин задумчиво начал складывать из письма самолетик.
— Неохота, — признался он. — Надоело мне с ней. Человек она, конечно, хороший, но тоску на меня нагоняет.
Будкин ловким, точным движением запустил самолетик. Тот нырнул, вынырнул, полетел за край крыши по красивой нисходящей линии, пронесся над желто-зеленым ветхим тряпьем березок в сквере и вдруг без видимой причины кувыркнулся вниз и исчез в тени, как в озере.
— Господин Будкин зажрался, — констатировал Служкин. — От такой чудесной девушки отказывается. Доиграется господин Будкин, точно. Имеет терема, а пригреет тюрьма.
Будкин захехекал.
— Руневой в тебя надо было влюбиться, Витус, — сказал он. — Вы бы друг другу идеально подошли.
— Я хоть к кому идеально подойду, — без ложной скромности ответил Служкин. — И отойду так же.
— Мне не такая девка нужна, — мечтательно произнес Будкин, глядя в теплое небо, которое незаметно из глубины словно бы начинало медленно промерзать на зиму. — Такая вот…— туманно сказал он и пошевелил пальцами. — Особенная…
— Такой большой, а в сказки веришь, — буркнул Служкин.
— Не-е, Витус, я не в сказки, я в жизнь верю. Это другие верят в сказки. Вот девки, что вокруг вьются, смотрят на меня как на какого-то Хоттабыча: мои бабки, хаты, тачки, свобода моя — для них какое-то Лукоморье. Потому они на меня и вешаются. А меня-то за всем этим не видят!
— А Сашенька видит.
— Рунева, наоборот. Она счастлива уже одним тем, что моя мама меня родила. А я этим тоже не исчерпываюсь. Руневой все равно: живи я хоть в шалаше с голой задницей, она все равно любить будет. Только в шалаше я себя уважать бы перестал. В общем, ни с той ни с другой стороны нет уважения к тому, что я в себе ценю больше всего: к моему умению жить.
Ознакомительная версия.