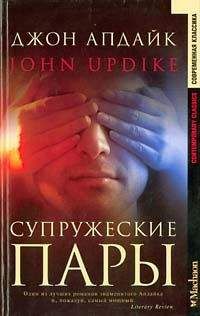Пайт представлял себе усеянный битым стеклом асфальт, безразличные снежинки, мерцающие в свете синих полицейских вертушек. Он учился тогда на втором курсе Мичиганского университета, хотел стать архитектором, но после гибели родителей почувствовал, что не сможет продолжать учебу на заемные деньги, эксплуатируя сострадание окружающих к сироте. Такой путь вызывал у него неодолимое отвращение. Он продал за бесценок свою долю прав на родительский тепличный бизнес брату Юпу, а сам записался в армию. После трагедии весь мир превратился для Пайта в скользкое место. Он навсегда остался в позе человека, пробующего носком ботинка свежий лед, прислушивающегося, не затрещит ли, готового отпрыгнуть назад.
«…отворим же сердца наши и помолимся за умерших, безвременно оставивших нас…» Пайт настроился на мысли о родительском бессмертии и увидел их в облаках — блеклых, маленьких, в рабочей одежде, как в теплице. Если бы они вернулись сейчас к нему, то только как чужаки, слепые ко всем его заботам, не ведающие и не способные изведать, как он мужал. Kijk, daar isje vader. Pas op, Piet, die hand bijt. Naa kum, it makes colder out… «Будь вежлив; и не встречайся с девушками, на которых тебе было бы стыдно жениться»… От мыслей о смерти родителей он молитвенно перешел к мыслям о неизбежности собственного ухода, как ни противоречила этому воздушная гармония света, бьющего в высокое белое окно.
Пайт вырос в более суровой церкви — голландской реформистской, среди лакированных дубовых панелей и мутных витражей с волхвами, раз и навсегда парализованными свинцовыми окладами стекляшек. Прихожанином родственной церкви, более умеренного детища Кальвина, он стал, пойдя на компромисс с Анджелой, не верившей вообще ни во что. Иногда он задумывался, что мешает и ему влиться в сплоченные ряды счастливых неверующих. Видимо, недостаток отваги. Гибель родителей сделала его малодушным. Для разрыва с верой нужна смелость, хотя бы на мгновение, а в человеческой душе присутствует не пополняемый запас смелости. В момент неожиданной смерти родителей этот запас исчерпался у Пайта до дна. Ныне жизнь облепляла его со всех сторон, даже лицо становилось все более плоским, не выдерживая давления извне. К тому же, его европейское стремление к порядку требовало, чтобы он воспитал христианами своих детей. Его дочь Рут — плоское напряженное лицо, как у отца, и непроизвольная величественность каждого движения, как у матери, пела сейчас в церковном хоре. При виде ее покорно раскрывающихся губ вся его кровь возопила: «Боже!», а предвиденье собственной смерти накрыло его, как прозрачная стеклянная крышка.
Наконец-то детский хор, неуверенно вторящий осипшему органу, закончил пение. Вместо него вступили шорохи и покашливания. В это Вербное воскресенье в церкви собралось много народу. Пайт смотрел прямо перед собой и улыбался, чтобы дочь, озирая собравшихся, увидела его. Когда это произошло, Рут тоже улыбнулась, потом покраснела и уткнулась взглядом в свои колени, закрытые длинным подолом. Младшую, Нэнси, отец пугал, зато Рут он всего лишь смущал. Церемониймейстеры зашагали вразнобой по алому ковру. Перейти реку по мосту, не развалив его. Священник раскинул руки — ангельские крыла, открывающие объятия заблудшим. Золотые блюда, гимн «Вверх по лестнице Иакова». Стоя среди янки, пытающихся исполнять этот рабский гимн, Пайт едва не завыл, зная, что истинные члены голландской реформистской церкви никогда не согнули бы спины для этого христианнейшего действа. «Грешник, любишь ли ты своего Иисуса?» Аболиционизм. Дети света. «Ступень за ступенью, все выше и выше…» Двое из четырех церемониймейстеров уселись на скамью перед Пайтом. У одного оказались уши сатира, развратно заросшие волосами. Пятнистый от старости затылок сатира собрался в складки. Минуты. Метеоритная бомбардировка.
Начало проповеди.
Преподобный Хорас Педрик, костлявый невежда, 60 лет. Главный предмет заблуждений — деньги: ему их вечно не хватало. Родился в штате Мэн, в бедной рыбацкой семье, принял сан после двух банкротств, вызванных болезненной осторожностью и страхом нищеты. Робость и возраст не позволяли Педрику претендовать на приход в крупном городе. На нем стояла несмываемая печать прозябания в скаредных городках Новой Англии на протяжении нескольких пятилетних сроков. Свою теперешнюю паству он представлял скопищем практичных людей, бизнесменов, закаленных самой природой. На кафедру он взбирался со стоящими дыбом седыми волосами, с твердой решимостью не обращать внимания на насмешки, чаще воображаемые. Произнося проповедь, он извивался всем телом, как уж в сутане. Христианство в его интерпретации сильно отдавало бухгалтерией.
— Иисус не учит нас заглядывать далеко вперед. Он не говорит: «Вот удобный случай крупно заработать. Купи за восемьдесят, чтобы в Земле Обетованной продать за сто». Нет, Он предлагает нам сиюминутную выгоду, всего четыре с половиной процента, зато ежеквартально! Я понимаю, что обращаюсь к практичным людям, бизнесменам, принимающим далеко идущие решения в не ведающем сантиментов мире, раскинувшемся за пределами этого храма…
Пайта больше интересовало, подстригает ли сидящий перед ним сатир волосы, торчащие у него из ушей. Судя по виду, там не обходилось без электробритвы. Он дотронулся до своей ноздри и напрягся, борясь с желанием чихнуть. Разглядывая золотой алтарный крест, он вспоминал нечестивые утверждения Фредди Торна, будто Иисуса распяли на Х-образном кресте, и церкви пришлось пойти на фальсификацию из-за непристойности такой позы. У Христа были все причиндалы, положенные мужчине. Был ли он девственен, упомянуто ли об этом в Библии? Вряд ли: арабские мальчишки, например, уже к двенадцати годам становятся мужчинами. На то и деревенская культура, содомия; дети природы, облегченный доступ, египетский лотос, так сказать… Африканцы спариваются прямо посреди поля, за работой, это для них, что воды хлебнуть. Забавно, до чего чистым делается взгляд женщины после совокупления! Причиндалы возмужавшего самца под повязкой на чреслах — но как пронзает Его взор смертных, сгрудившихся под церковными сводами! Пайт побаивался Фредди Торна с его плотоядным аппетитом к грязным истинам. Побаивался, но пошел к нему в кабалу, уступил ему заложницу, распятую на Х-образном кресте. У Фредди смышленый взгляд. Голова с морщинами на затылке повернулась в профиль, ушное отверстие сменилось круглым карим глазом. В проповеди Педрика псалмы, распеваемые во славу Иисуса, превращались в зеленые купюры, а кража верблюжонка — в повод поразглагольствовать о нерушимости права собственности. Педрик очень старался, но так и не обрел мира в душе. До чего беспечен Господь, до чего небрежен! Это неожиданное соучастие в Божьем промысле вернуло Пайту желание жить.
— Итак, дети мои, хотите верьте, хотите нет, но в деньгах есть потаенный смысл. Надо иметь силы отнестись к богатству легко, применять дорогие мази, презрев цену, осмелиться перевернуть столы менял —.уважаемых банкиров и бизнесменов, вроде вас. Да осенит нас ныне сей свет, да снизойдет на нас сила сия, да услышат осанну наши сердца. Аминь.
Все запели «Узрите Святые врата» и сели для молитвы. Молитва и мастурбация так давно перемешались у Пайта в голове, что, слыша благословение, он представлял себе свою обнаженную любовницу с солнечным зайчиком между грудей, с задранным подбородком, с просветлевшими глазами чуть навыкате. Чувствуя эротическое возбуждение, он двинулся по проходу, мимо фарфоровых старушек, дружно кивающих головами, к притвору, пропахшему мокрой бумагой, чтобы, испытав цепкое пасторское рукопожатие, снова очутиться на открытом воздухе.
В дверях причесанное дитя в вельветовых штанишках вручило ему пальмовую ветку.
Поджидая дочь, он оперся о теплую белую колонну, держа ветку в левой руке, синицу — в правой. Мир за пределами храма навевал удивительно сентиментальное настроение: пахло пеплом, соком оживших деревьев, еще голых, но уже раскинувших кружевную тень, обшитые вагонкой дома выглядели кукольными. Чугунная беседка, выкрашенная в зеленый цвет, придавала картине металлический привкус. Небо состояло из бесчисленных слоев синей эмали. Между небом и землей висела, сопротивляясь ветру и словно вцепившись в воздух скобками лап, упрямая чайка. Каждый камешек, каждый пучок травы, каждое твердое вкрапление в грязь у церковного порога отбрасывало индивидуальную полуденную тень. Пайт унаследовал ужас перед твердым грунтом, но ему хватило одного десятилетия, чтобы полюбить эту землю. Недаром Галлахер твердил, что они торгуют не домами, а видами.
Поглядев вниз, на деловой квартал, в центре которого, у магазина Когсвелла, сходились улицы Божества и Милосердия, Пайт заметил белую фигуру. Что-то заставило его прирасти к ней взглядом. Кто это? На самом деле он отлично знал, кто. В движениях женщины сочетался полет и скованность, как у новобрачной. Белый цвет был неуместен в это время года, когда только у серебряного клена набухли почки. Возможно, она, как и Пайт, была уроженкой мест, куда весна приходит раньше. Черный молитвенник в белой перчатке, густой румянец на лице — краска смущения? Он знал, кто это: новенькая, миссис Уитмен. Видимо, она принадлежала к епископальной церкви и возвращалась из своего храма, церкви святого Стефана, что ниже по склону. Она подошла к большому черному автомобилю. Наверное, боялась опоздать на церковную службу, как и Пайт. Способ продемонстрировать презрение? Не подозревая, что за ней наблюдают, она с яростной грацией штурмовала автомобиль, крутанула юбкой, проскользнула на сиденье, захлопнула дверцу все сразу. Стук дверцы долетел до слуха Пайта уже после того, как он увидел всю сцену. Взревел мотор, машина лихо объехала скалу и устремилась прочь от городка. Все женщины, с которыми был знаком Пайт, разъезжали на семиместных дредноутах, одна Анджела щеголяла в «Пежо». Он снова задрал голову. Неподвижная чайка пропала. Над головой синее пламя слой за слоем проглоченного звездного света было притушено расплывающейся полосой, оставленной самолетом. Он зажмурился и представил, как вокруг поднимается к небу пузырящийся сок. Ручьи пепла. Меловое тепло. Сладкий привкус невесты.