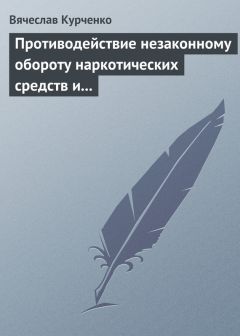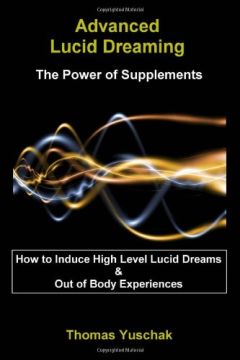Как бы то ни было, я пишу все это сбивчиво, перескакивая с события на событие, быть может, оттого, что мне необходимо описать не месяцы, а целые годы наших жизней – огромную пропасть лет – уместив это все в одну рукопись, и читатель может что-то недопонять про Катю, решить, что она была хитрой, себе на уме, что она использовала свое обаяние и красоту с целью играть сердцами мужчин, даже получать какую-то материальную выгоду . Но это было совсем не так, и прошу простить меня, если вы заподозрили что-либо подобное. В действительности Катерина была иной, просто иной, она была… необыкновенно чистым и светлым человеком.
В самые темные минуты жизни своей, когда я терял последнюю веру в человечество, свою страну, всех русских, в самого себя, когда люди представлялись мне совершенными бесами, а земля – преисподней, одно воспоминание о Кате, как не о луче, о настоящем, огромном пламенном солнце – против воли выводило меня из тьмы. Я думал, что если есть на свете такая девушка, и не где-нибудь, а в самой России, то мое видение жизни как беспросветного мрака – есть ложь; более того, я вдруг осознавал, что есть что-то еще, что-то невыразимое и бездонное, неподвластное среднему уму и оттого неразгаданное мною, что-то, что мне отчаянно хотелось понять, но что понять я пока не мог, а стало быть, рано отчаиваться. Нужно было жить и бороться, и надеяться, что когда-нибудь я постигну суть явления столь возвышенных людей, как Катя, на нашей бренной земле.
Глава вторая
В те серые декабрьские слякотные дни, когда мрачные облака все плотнее затягивали небеса, сковывая последние лучи зимнего неуютного солнца, когда ничто не предвещало дурного, или почти ничто, ведь это был 2013-ый год, и они жили тогда в Киеве, Парфен вышел из квартиры и принялся запирать дверь. Каждый день он до блеска начищал ботинки, протирал брюки, очищая их от грязи с тем только, чтобы выйти из подъезда и, еще не дойдя до машины, выпачкать их снова в лужах и грязи, размешанной еще в полвека назад разбитых бетонных дорогах двора.
Сейчас руки отчего-то не слушались его, и связка ключей выпала и со звоном ударилась о пол. Он наклонился, и в этот самый миг дверь соседней квартиры отворилась с тем, чтобы молодая соседка увидела его в столь неприглядной позе. Парфен быстро выпрямился и, улыбнувшись, поздоровался. Пусть он был старше, но все же был еще привлекателен: среднего роста, с широкими спортивными плечами, чуть вздернутым носом, русыми волосами и такой же русой короткой бородой – он походил скорее на богатыря из древних былин, чем на юриста. А главное, голубые глаза его, небольшие, но необыкновенно добрые и честные, сразу приковывали к себе взгляд.
– Здравствуйте! – Поздоровалась с ним Татьяна, студентка, прибывшая два года назад из Крыма в столицу Украины. Она жила теперь у своей одинокой сорокалетней сестры, а сейчас, видимо, собиралась бежать на лекции.
Удивительное дело: где-то там на главной площади города, когда-то Крещатицкой, затем Советской, а затем площади Калинина, отстроенной и получившей свой современный, величественный и столь живописный вид после Великой Отечественной войны, собирались неспокойные толпы бунтарей, одно только присутствие которых у правительственных зданий несло в себе нехорошее, смутное, неправильное, а они здесь, в спальном районе Киева, как ни в чем не бывало занимались будничными вещами.
Милая, невысокая, но тонкая и звонкая Таня была красивой девушкой; ее красоту не могло скрыть недорогое шерстяное коричневое пальто с катышками, а лицо ее сложно было спутать с чьим бы то ни было лицом из-за большой родинки в правом углу рта, так напоминавшей по очертаниям сердце.
Она шла в институт, а он, Парфен, отец двоих маленьких детей, отправлялся на работу. И словно не нависло над городом и, быть может, всей страной никакой угрозы, будто не далее, как в ноябре никто не разогнал студенческий майдан, и беспорядки после этого не усугубились. Как, однако, оказалось легко было закрыть глаза на все тревожные и лихие обстоятельства жизни в стране и просто плыть по течению.
Пока они вдвоем спускались по лестнице, Парфен успел предложить Тане подвезти ее, но она наотрез отказалась:
– Ну что вы! Мне совсем недалеко! Несколько станций по прямой.
– Да мне ведь не сложно.
– Еще на работу опоздаете из-за меня. – Таня была скромной девушкой, и когда она говорила, щеки ее так и пылали от смущения. Казалось, каждое слово давалось ей с трудом. Парфен с любопытством взглянул на нее и подумал, была ли Таня такой же застенчивой со сверстниками, или с ними ее не сковывало ложное смущение и стыд и она, наоборот, была общительной и веселой.
Когда они вышли из подъезда, Таня вымолвила тихо:
– До свидания! – и пошла поспешно к метро.
Парфен же, вместо того чтобы сразу устремиться к машине, вдруг замер на мгновение, сам не понимая, чего он ждет и что его так смутило в прощании с Таней. Взгляд его рассеянно и неосознанно скользнул по большому двору с одной маленькой детской площадкой, внезапно он увидел большого мужчину с огромными мускулистыми руками, а главное, необыкновенно толстой шеей. Казалось, натягивая тугие жилы, мышцы так и прорывались сквозь его кожу, дыбились и вздувались. Он был не юн, быть может, даже чуть старше самого Парфена, подбородок его был необыкновенно широким, нос мясистым, и все выражение невзрачного и словно побитого жизнью небритого лица – крайне неприятным.
Докуривая папироску, он вязким взглядом провожал Татьяну, а она легкой походкой, почти не касаясь земли, убегала вдаль.
Глядя на эту толстую шею, Парфен вдруг почувствовал, как ток пронзает его: он вспомнил, где видел незнакомца прежде! Ведь только вчера вечером он заскочил в магазин после работы, и там в очереди этот отвратительного вида человек стоял перед ним! Так почему он узнал его? Когда тот расстегнул куртку в магазине, в нижней части шеи Парфен увидел большую татуировку нацистской свастики. «Опять с Галичины понаехали радикалы!» – С неприязнью тогда заключил про себя он.
Однако подобные сцены в их странной жизни, насыщенной гнусными переменами, происходили в последние годы все чаще и чаще, оттого он почти сразу забыл об увиденном. То, что еще несколько лет назад казалось забавным и диковинным, довольно быстро приелось и стало данностью, и вместе с этим радикалы, похожие более на убийц и уголовников, чем на бунтарей, отстаивающих свободу, с их наглыми квадратными лицами, лишенными не только намека на мысль, но и на всякое чувство, с татуировками не только на теле, но и на шеях, кистях рук, пальцах, лбах, щеках, подбородках казались досадной частью жизни, а не изнанкой ее, не ее потусторонним дыханием. И вот теперь он вспомнил того бандеровца вновь!
Парфен встряхнул головой, отгоняя от себя странные мысли, а затем устремился совсем в другую сторону: к своему подержанному автомобилю, ведь он действительно мог опоздать на работу.
А затем началось жуткое. Поздно ночью в квартиру Лопатиных позвонили, и сонный Парфен, не сразу отворивший дверь, а только после того, как заглянул в глазок, увидел перед собой соседку, сорокалетнюю Зинаиду. Ее необыкновенно длинное худое лицо с острым подбородком и паутиной морщин, расходившихся по нему лучами, выглядело обеспокоенным, а большие глаза, когда-то, должно быть, восхитительно выразительные, взирали на Парфена со странной доверчивостью, как будто он был ей ближайшим другом.
А ведь сами Лопатины переехали в Киев всего несколько лет назад и почти не общались с соседями, за исключением тех случаев, когда Зинаида звонила им в дверь и просила угомонить детей. Будучи одинокой и не имея опыта воспитания, она не могла смириться ни с детскими криками, ни с длительным младенческим плачем, ни с битьем стен и пола тяжелыми пластиковыми игрушками, ни тем более с топотом неутомимых детских ножек.
Парфен и теперь был уверен, что соседка звонит, чтобы жаловаться, хотя он не представлял, на что, ведь в их квартире стояла сонная, почти совершенная тишина, и он уже готовился дать ей отпор, и губы его даже сжались в сердитую линию.