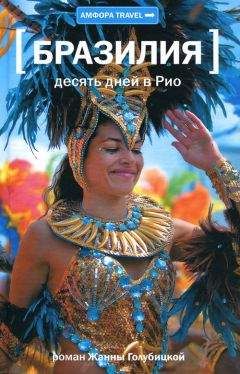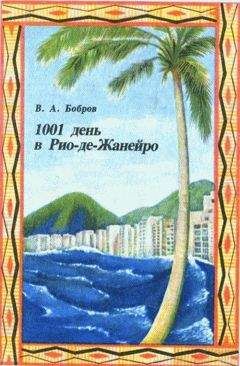Ознакомительная версия.
Слушая их, Тристан начал нервничать: он не мог участвовать в их разговоре. Их мир был для него чужим. В Сан-Паулу он создал себе прошлое и мог в кругу друзей вспоминать события двенадцати лет. Однако теперь, если не считать тех случаев, когда дядя Донашиану поворачивался к нему и специально пытался вовлечь его в разговор каким-нибудь общим вопросом (а что вы, промышленники, думаете о последнем замораживании цен? А вас, молодых, так же, как и меня, пугают свободные выборы президента?), Тристану оставалось только пыхтеть кубинской сигарой да глубже забираться в скрипучее кожаное кресло, вытягивая вперед ноги и пытаясь подавить дрожь в мышцах. От нечего делать он разглядывал Изабель, лицо которой словно подернулось туманной дымкой и исчезло в воспоминаниях об идиллическом детстве. Она сняла туфли со своих стройных ног и забралась на изогнутую малиновую софу. Тристана подавляла теплота, соединявшая ее с дядей, она казалась ему нездоровой, как сигарный дым. Она удалилась в свой очарованный мир. Что ей нужно было от меня, думал он в облаках дыма. Ничего, кроме початка, початка незнакомца, который сделает грязную работу природы.
В конце концов хозяин с взъерошенной седеющей шевелюрой поковылял спать, а супружеская пара отправилась в свою спальню на втором этаже квартиры, расположенную рядом с прежней комнатой Изабель, которую Мария во время своего недолгого пребывания здесь в качестве жены превратила в кладовую. Окна спальни снизу доверху заливал искрящийся свет Рио.
— Любовь моя, не возражаешь, если я прогуляюсь немного? А то я надышался сигарным дымом. Я не привык к сигарам, как и к длинным застольным беседам.
— Я знаю, как мы с дядей замучили тебя, милый. Прости нас. Дядя не вечен и потому ему нравится думать о прошлом. Будущего он боится. Он уверен, что на всенародных выборах победят коммунисты или какой-нибудь персонаж идиотского телевизионного сериала. Бедный старик так напуган.
Поняв, что каким-то образом обидела Тристана, Изабель прошла к нему через спальню; она уже скинула с себя зеленые ножны платья, и белое нижнее белье в двух местах разрывало черноту ее тела.
— У меня никого не осталось, кроме него, — сказала она томным горловым голосом. — Только он помнит, какой я была, когда… когда еще не утратила невинность.
— Да, он помнит, — согласился Тристан. — Помнит, что, несмотря на дорогой серый костюм, я остался тем же черномазым, с которым он запрещал племяннице встречаться двадцать два года назад. Он помнит, но ничего не может с этим поделать.
— А он и не хочет ничего делать, — сказала Изабель Тристану, лаская его лицо и пытаясь стереть пальцем гневные морщинки с высокого лба. — Он видит, что я счастлива, а больше ему ничего не надо. — Тонкие прямые волосы Тристана начали редеть, и лоб его казался от этого еще более высоким. Она нежно погладила лишенные волос виски. Ее настойчивость раздражала Тристана, и он дернул головой, чтобы стряхнуть ее руку. На безымянном пальце она носила кольцо с надписью «ДАР», которое ее отцу удалось выписать из Вашингтона взамен старого; но оно было хуже первого: гравировка на нем была небрежная, и выглядело оно менее древним, чем кольцо, снятое со старой американки в Синеландии; это тоже раздражало Тристана.
— Не один твой дядя сходит с ума по прошлому. Ты тоже забыла обо всем, вспоминая прежнюю роскошь, построенную на бедах других людей. Ты погрузилась в свои воспоминания, и я не мог дотянуться до тебя.
— Но я же вернулась, Тристан, — сказала Изабель. — Ты можешь меня потрогать. — Не отводя глаз от его обиженного лица — будто стоит ей отвернуться, и он ударит ее, — Изабель наклонилась и сняла трусики. На лице у нее застыло выражение шпионящей негритянки, у которой глаза широко раскрылись и она готова не то заплакать, не то засмеяться по первому же знаку. Если бы не светлые глаза, то Изабель своим внимательным обезьяньим личиком и пышной шевелюрой походила бы на одну из оборванных подружек Тристана из фавелы, на Эсмеральду, ту, что нравилась ему больше всех. Он чуть улыбнулся, и Изабель распрямилась. На фоне блестящего черного треугольника волос в паху кожа ее казалась коричневой. Пупок напоминал ямочку в дне котла с двумя черными ручками, ее бедрами, выгибающимися, как два огромных жареных ореха кешью. Когда он положил свою ладонь на ее тело, он увидел, что от загара, полученного на теннисном корте и во время занятий виндсерфингом, его собственная кожа тоже стала коричневой, хотя и другого оттенка. Волоски на его руке поблескивали медью.
— Я с радостью наблюдал за тобой и твоим дядей, — сказал он, и голос его устало перешел на баритон. — Вы действительно очень привязаны друг к другу — у вас одна кровь и общие воспоминания. Я совсем не сержусь. Мне просто печально находиться так близко от своего родного дома…
— Тристан, там больше нет ничего. Фавела стерта с лица земли, а на ее месте устроен ботанический сад и смотровые площадки для туристов.
Прогуливаясь по Ипанеме, они зашли в магазин Аполлониу ди Тоди, однако, судя по его записям, хрустальный подсвечник не был заложен. «Сохрани мой подарок, если хочешь, и зажги в нем свечу в ночь нашего возвращения».
— А если ты и найдешь кого-то из своих, — осторожно добавила Изабель, — они все равно тебя не узнают.
— Да, — вздохнул он. — Как же ты чутка, Изабель, когда дело касается моего прошлого, а не твоего. Однако тебе придется отпустить меня прогуляться по кварталу. У меня затекли икры и отяжелела голова. Я вернусь через несколько минут. Приготовься ко сну, дорогая. Я возьму с собой ключ и, если ты уснешь, скользну прямо в твои сны. На мне не будет одежды.
Она подошла поближе и, встав на цыпочки, прижалась губами к его устам.
— Иди. Но будь осторожен, — серьезно сказала она.
Это удивило его. Осторожен? В собственном городе? Сколько же ему теперь лет? Ей исполнилось сорок, ему — сорок один. Выходя из комнаты, Тристан оглянулся на нее; она скинула лифчик и, дразня его, встала у широкой кровати в позе стриптизерки. Ему вспомнилось, как она однажды спросила его: «Я все еще нравлюсь тебе?» Тристана страшно тянуло к Изабель, но он вышел из спальни и закрыл за собой дверь.
Днем знойный воздух тропиков навевает мысли о том, что ничего в этом мире не может быть доведено до конца, что человеку суждены распад и бессилие. Однако ночью атмосфера наполняется ощущением восторга и возможностью действия. Какое-то важное обещание ожидает в нем своего осуществления.
Старый японец за зеленым мраморным столом у входа почтительно кивнул, когда мимо него прошел господин в серебристо-сером костюме. Тристан толкнул прозрачную дверь, и соленый воздух ударил ему в ноздри. Он пошел в ту сторону, откуда доносилась едва слышная музыка ночных клубов и стрип-баров, расположенных вдоль Копакабаны. Витрины магазинов в Ипанеме уже были закрыты шторами; швейцары за стеклянными дверьми напоминали посетителей аквариума, в мутных водах которого плыл Тристан. В нескольких ресторанах еще горел свет и сидели посетители, мерцали не знающие сна вывески банков, но на тротуарах, мимо которых с шуршанием проносились автомобили, пешеходов почти не было, хотя еще не пробило полночь. Ближе к Копакабане света было больше, и люди встречались чаще, особенно возле гигантских отелей, куда желто-зеленые, как попугаи, такси доставляли одних и забирали других туристов. В витринах здешних магазинов сверкали подсвеченные ювелирные изделия, драгоценные и полудрагоценные камни: турмалины и аметисты, топазы и рубеллиты — все они были добыты в горах Минас Жераис.
За столиками, выставленными на тротуары, в ожидании ночной сделки сидели бедные и богатые, покупатели и продавцы, они сидели и болтали, потягивая сладкий крепкий кофе, словно им не было дела до того, что они теряют впустую время, которого уже никогда не вернуть. Вдоль этих столиков они с Эвклидом, бывало, ходили, выпрашивая подачки и высматривая болтающуюся туго набитую сумочку, которую можно срезать в мгновение ока. Неподалеку, в темных переулках, выходящих на Авенида-Атлантика, из домов вывалились пьяные, беззаботные туристы, которых после получаса, проведенного со шлюхой-мулаткой, можно было стричь, как овец.
Теперь он сам был облачен в дорогой серый костюм, и молодые женщины в легкомысленных нарядах, похожих на кукольные платьица, выплывали навстречу, словно их тянуло к нему магнитом, изредка попадались и мужчины в джинсах в обтяжку, лица их были размалеваны почти столь же замысловато и тщательно, как у индейцев. Тристан шагал, никуда не сворачивая, по черно-белым диагональным полосам тротуара, и ему не нужно было ничего, кроме поцелуев ночного ветерка, обрывков самбы и форро, доносившихся до него веселых голосов, ароматов кофе, пива и дешевых духов. Голова его очищалась от затхлого дыма прошлого и от жгучего осознания истины, что он никогда не сможет владеть ею полностью. В квартире эта мысль подавляла его, потому что попытка овладеть ею неисправимо изуродовала его жизнь, и теперь ее облик был отмечен печатью вины и замаран убийством и бегством.
Ознакомительная версия.