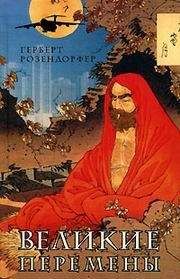Да, это, в сущности, была повесть в песнях и картинах, но понял я это лишь позже, из объяснений господина Ши-ми. Сам же я, когда они пели, почти не понимал слов, и смысл повести остался мне непонятным. Вроде бы речь шла о том, как одна дама приехала в чужую страну и вышла там замуж за высокопоставленного чиновника, а потом бросила его (или он ее). По ходу дела актеры отпускали шутки, над которыми все большеносые громко смеялись; однако актеры продолжали делать вид, что ничего не замечают.
Часа через два занавес снова опустился, и все захлопали в ладоши. В зале зажгли свет, и тут произошло удивительное: и дама, и чиновник, и все прочие снова вышли из-за занавеса на помост. Вот тут-то они совершенно ясно дали понять, что прекрасно знали о большеносых, сидевших в зале и следивших за ними все это время. И каждый из них долго кланялся.
Одеты они были довольно странно, совсем не так, как обычно одеваются большеносые. Я удивился, что ни разу до сих пор не встречал на улицах людей в таком платье, но господин Ши-ми снова рассмеялся и объяснил, что они так оделись нарочно. Сейчас все дамы и господа пойдут к себе, в другую часть дома, снимут эти пестрые платья, наденут обычную одежду и пойдут домой.
Мы тоже пошли, но сначала зашли в харчевню, чтобы поесть. Тут-то господин Ши-ми и спросил меня, причем по его лицу и голосу я понял, что вопрос задан не без умысла: понравилось ли мне представление? О да, ответил я, во всяком случае, это было весьма любопытно. Не заметил ли я чего-либо необычного? Конечно, мне многое показалось необычным… Необычного для мира большеносых, уточнил он; не показалось ли мне что-либо знакомым? Нет, был вынужден ответить я.
Господин Ши-ми засмеялся. Оказалось, что имя автора этой повести тоже известно: его звали Лэй-гао, он умер около тридцати лет назад. Называется она «Повесть о Стране улыбок», и речь в ней идет о Срединном царстве![67] Теперь уже я не мог сдержать смеха. Я-то был твердо уверен, что ничего более «большеносого» и быть на свете не может, а актеры, оказывается, представляли историю, случившуюся у нас, в Срединном царстве! Так вот как они представляют себе нашу жизнь! Ясно, что ни актеры, ни тем более сам господин Лэй-гао не только никогда не видали нашей страны, но и ничего о ней не слыхали. Я смеялся и не мог остановиться. Потом я попросил господина Ши-ми завтра снова сходить со мной в этот Храм богинь искусства, чтобы посмотреть все представление еще раз. Теперь, когда я знаю, в чем дело, оно доставило бы мне истинную радость. Однако мое желание, к сожалению, нельзя было выполнить: таких повестей у большеносых много, поэтому «Повесть о Стране улыбок» играют далеко не каждый день (в других повестях речь идет не о Срединном царстве). Господин Ши-ми заглянул в маленькую книжечку и сообщил мне, что эту повесть будут играть теперь только в следующем месяце. Я обязательно на нее пойду. А до тех пор придется обождать. Так проходят здесь мои дни. Снег все идет. Я купил себе толстую, длинную накидку синего цвета, какие носят большеносые. Если бы ты мог меня видеть! Иногда мне самому бывает смешно, когда я себя вижу. В харчевню под названием «Райский сад» я заходил. Танцовщица, показывавшая трюк с маленькими белыми шариками, там больше не выступает. Извини, что не смог выполнить твою просьбу. Мне сказали, что она уехала в другой город и теперь выступает там. При всей моей любви к тебе я все же надеюсь, что ты не заставишь меня отправиться на ее розыски.
Передай от меня привет юному Ло Дэ-саню. Скажи ему, что слава не вечна, хоть он и получил в этом году первую премию. Но не говори ему, откуда я это знаю.
Приветствую и сердечно обнимаю тебя издалека —
твой старый друг Гао-дай.
(четверг, 23 декабря)
Мой милый Цзи-гу,
ты неправильно меня понял: для того, чтобы играть, то есть слушать разные пьесы, нужны и разные музыкальные тарелки. Одна такая тарелка всегда играет только одну пьесу, точнее, одну длинную или несколько коротких. Дело в том, что машина, куда их закладывают, — не музыкальный инструмент. Инструмент знает все музыкальные пьесы, но они как бы спят и, когда музыкант ударяет по нему или водит смычком, нужная пьеса пробуждается и начинает звучать. С машиной этого сделать нельзя. Или можно сказать вот как: в музыкальном инструменте хранятся души всех пьес, и хороший музыкант может по желанию вызвать любую, чтобы на какое-то время облечь ее плотью звуков. А на Игральной Машине можно сыграть только ту пьесу, которую знает вложенная в нее музыкальная тарелка. В этом смысле у Игральной Машины нет души — или, лучше сказать, она позволяет вызывать лишь тени душ. Но все равно я считаю ее полезной, ибо, слушая много раз одну и ту же пьесу, лучше проникаешь в ее суть и смысл.
Однако облегчение труда, как я уже писал тебе, рассказывая о литье домов, и тут приводит к извращениям. Поскольку слушать музыку стало теперь для большеносых очень легко, они слушают самые дурацкие пьесы, причем без перерыва. Похоже, что всякое облегчение ведет лишь к появлению множества совершенно бесполезных вещей и занятий. Справедливости ради следует признать, что не большеносые первыми дошли до этого. Разве у нас дело обстоит лучше? Если задуматься, то придется сказать: нет, не лучше. С тех пор, как изобрели колесо и начали разводить лошадей, все только и знают, что ездят туда и сюда, даже если в этом нет никакой нужды. Сколько бесполезных поездок было с тех пор совершено? Бессчетное количество! Что же делают они, эти люди, там, куда приезжают? Да все то же, что и дома. Нет, я вовсе не противник путешествий как таковых (хотя еще великий мудрец с Абрикосового холма предпочитал покой любым путешествиям): они могут быть и нужными, и полезными. Возьми, к примеру, мое путешествие: даже если все, узнанное мною здесь, останется известным лишь нам с тобой, все равно оно было нужно и полезно. Однако облегчение поездок неминуемо ведет к утрате смысла и искусства путешествий. Люди не путешествуют больше, а лишь ездят взад да вперед.
Нечего и говорить, что к большеносым это относится гораздо больше, нежели к нам: повозка Ma-шин упрощает путешествие стократ сильнее обычной конной, вот они и носятся по свету. Но тут сама собой напрашивается мысль, что очень многие из нелепостей, имеющихся здесь, то есть в будущем, берут начало еще в нашем мире. Ты знаешь, как много размышляли наши великие древние философы о происхождении культуры, о том, добр ли человек по своей природе, как утверждает Мэн-цзы, или зол, как говорит Сюнь-цзы, была ли культура подарена людям мудрыми императорами древности, или же выросла сама, подобно лишайнику на камне? На эти вопросы мы никогда не найдем ответов, разве что я решусь воспользоваться компасом времени второй раз и отправлюсь на две или даже на три тысячи лет назад, в эпоху императоров Яо или Шунь[68]. Думаю все же, что, вернувшись весной на родину, я долго еще не смогу покинуть ее снова. Кроме того, кто знает, не ожидало ли бы меня разочарование еще большее: не пришлось бы мне убедиться, что Яо и Шунь — да славится память о них еще в течение десяти тысяч поколений! — были всего лишь неотесанными невеждами? Но речь не об этом: все наши мудрецы, говорю я, начиная от великого Кун Фу-цзы и до утонченнейшего Гунсунь Луна[69], раздумывали над этим, но так и не пришли ни к какому выводу. И все же, как бы там ни было, мне кажется совершенно неоспоримым, что с того самого момента, когда первые росточки лишайника культуры появились на камне человечества, его движение стало неудержимым. Почему нельзя ни остановить это движение, ни повернуть его вспять? Никто не знает. Возможно, просто потому, что иначе и быть не может — как река не может взять и потечь вспять, от моря к горной вершине. Так уж устроено, а почему — неизвестно. Большеносые, кстати, тоже этого не знают, я спрашивал у господина Юй Гэнь-цзы. Да, сейчас люди знают много, сказал он и даже осмелился добавить, что знают они гораздо больше, чем люди ушедших стран и поколений; но объяснить, какая же именно сила заставляет камень падать на землю, так до сих пор никто толком и не сумел.
Потому-то я и думаю, что это движение человечества (причем это касается не только населения Срединного царства) от непротиворечивого первобытного состояния к царству всеобщего хаоса, раз уж оно началось, невозможно теперь ни остановить, ни тем более повернуть вспять. Причина же этого заключается скорее всего не в том, что человек по природе своей зол и глуп, как полагает Сюнь-цзы, а только в том, что в его душе всегда есть почва для глупости, которая и дает буйные побеги, стоит лишь маленькому ее зернышку упасть в эту почву.
Сознавать все это очень горько, и чем больше я думаю надо всем этим, тем мне становится горше. Есть ли хоть какой-нибудь смысл в человеческой жизни на этой шарообразной Земле? Господин Мэй Ло, судья, с которым мы много беседовали об этом, считает, что люди боятся над этим задумываться, и эта боязнь с каждым годом лишь возрастает. Большеносые до мелочей исследуют многое, даже слишком многое, подолгу ломая голову над самыми мельчайшими мелочами, и для каждой из этих мелочей у них найдется знаток, выдержавший государственный экзамен и получивший диплом с печатью. Но за пределы своих мелочей они выходить боятся. Мир большеносых — это мир мелочей.