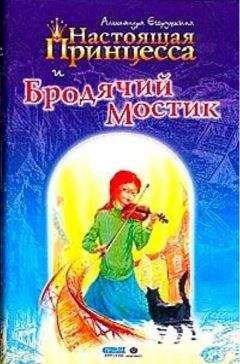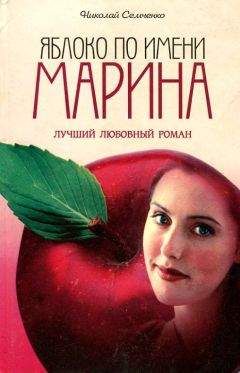В петровское царствование, не потеряв еще всех элементов личной свободы, крестьяне уже продавались помещиками оптом и в розницу, переводились из имения в имение, подносились в подарок, отдавались в приданое. «Продажа крестьян в начале XVIII века практиковалась в громадных размерах», — отмечает один из лучших исследователей этой эпохи Матвей Кузьмич Любавский21. Императорский указ 1721 года с негодованием отмечает: «Обычай есть в России, что крестьян продают как скотов, чего во всем свете не водится». Увы, здесь Петр не совсем был прав (хотя сама оглядка на «весь мир», а не на Бога и нравственный закон весьма характерна) — продавали крестьян как скотов далеко не только в России. Но распространенность преступления отнюдь не служит смягчающим обстоятельством при суде над преступником. Тот же Петр, возмущаясь продажей крестьян и написав в конце своего царствования только что упоминавшийся указ (который, впрочем, так и не вошел в жизнь), одновременно «содействовал развитию работорговли»: в 1717 и 1720 годах он позволил людям всяких чинов, кроме шляхетства, покупать людей для поставки вместо себя в рекруты. Тогда же крестьяне утрачивают безусловные права на свое движимое имущество. Закон предусматривал, что за долги помещика отвечает своим имуществом не только он сам, но и его крестьяне. Если имущество помещика продавалось с торгов и не покрывало суммы долга, выставлялось на продажу имущество его крестьян.
При Елизавете Петровне была отменена присяга помещичьих крестьян на верность воцарившемуся императору и его наследнику. Это означало, что помещичьи крестьяне более не считались дееспособными субъектами, не рассматривались как граждане, ответственно несущие тягло и в том присягающие на верность царю. За крестьян присягал теперь их помещик-дворянин, который отвечал императору за своих крестьян так же, как и за любое иное свое имущество. Прекращение приведения помещичьих крестьян к присяге переводило их в категорию «крещеной собственности».
В первой половине XVIII века крестьяне лишились не только гражданской, но и личной свободы. «Власть помещиков над крепостными была более власти самого государства, так как простиралась даже в сферу семейных отношений. Помещики разделяли родителей с детьми, устраивали по своему усмотрению браки <...> руководясь соображениями заводчиков рысистых лошадей и породистых овец. При выходе замуж за пределы вотчины требовали выводные или отпускные грамоты, а за выведенную невесту взимали плату от 10 до 20 рублей... Помещики судили своих крепостных крестьян и наказывали их по собственному усмотрению, доходя иногда до ужасающих примеров жестокости»22.
Отсутствие личностного сознания у крестьян, многократно отмечавшееся наблюдателями в XIX веке23, в этом контексте оказывается не врожденным национальным качеством русского мужика, но качеством, привитым императорской властью. М. Любавский приводит замечание английской путешественницы XVIII века леди Рондо о встреченных ею на пути из Петербурга в Москву крестьянах — это «народ очень учтивый, но вследствие непомерной работы и бедности потерявший образ человеческий»24.К XX веку крестьянское простонародье в массе утратило и те положительные качества, которые еще замечали сторонние наблюдатели XVIII века. Учтивость и открытость сменилась злобной скрытностью под маской тупости. Двести лет обращения с мужиком как со скотиной, непомерные работы и бедность сделали свое дело. 27 февраля 1917 года барон Николай Егорович Врангель встретил на улицах Петрограда совсем других мужиков, чем двумя столетиями раньше на пути в Москву леди Рондо. «Это были запасные, вылезшие на свет Божий из своих угрюмых казарм. Небритые, неумытые, с заплывшими серыми лицами... они напоминали громадное стадо баранов, застигнутое непогодой в степи... Ясно было, что все эти темные, серые существа не понимали, что происходило, были сбиты с толку, растерялись... В глазах их был страх, безотчетный и тупой... Смотрят не на тебя, а куда-то в пространство осовелым взглядом, от которого становится тоскливо на душе»25. Эти-то мужики, «рабы, утратившие страх»26, как не постеснялся назвать их барон Врангель, и решили судьбу России в 1917 году. За своими бывшими господами они не пошли, верить им отказались и с радостью стали грабить и убивать их. Но можно ли было ожидать иного от тех, у кого деды и прадеды «баронов врангелей» отобрали и личное гражданское достоинство, и имущество, и свободу?
Сравнивая помещичьих крестьян со старообрядцами и сектантами, такими же русскими мужиками, но не испытавшими помещичьего гнета и сохранившими религиозную самоответственность, побуждавшую их веками сопротивляться церковной и государственной власти, можно видеть, что и иные «национальные» русские качества: безынициативность, пьянство, лень — суть качества приобретенные, навязанные извращением жизни низших сословий сословиями высшими. Судя по северорусским ссудным грамотам, да и московским судебникам до Смутного времени, чувство личного достоинства высоко сознавалось всеми сословиями, а хозяйственное состояние Псковской и Новгородской земель говорят и о предприимчивости, и о трудолюбии свободных «мужей вечников».
Не следует забывать, что первый шаг к порабощению крестьян (отмена Юрьева дня) был сделан Борисом Годуновым, незаконным правителем, осужденным Церковью и общественным мнением как «властолюбец, вкупе и злой раб» (тропарь 2-го гласа службы царевича Димитрия), что прикрепление к земле исчезло само собой в годы Смуты и было восстановлено соборным уложением 1648 года именно как одна из форм всеобщего тягла, которое несут все российские граждане ради благоденствия отечества и собственного благополучия. После страшного разорения Смуты всеобщность тягла воспринималась как «окосмичивание» хаоса, и первые Романовы считали себя «тяглецами Божьими» в такой же степени, как и любой посадский или земский гражданин. «Пока существовала обязательная служба дворян, крепостное право оправдывалось в глазах правительства и дворянства и даже самих крестьян»27.
Указы Петра III 1762 года «О вольностях дворянства» освободили дворян от их тягла — обязательной личной службы Государю. Страшным нравственным и, в исторической перспективе, политическим преступлением Петра III было то, что, освободив в 1762 году от долга службы дворян, царь не освободил на следующий день от обязанностей тягла крестьян (В. О. Ключевский), но превратил их в рабов дворян на долгие 99 лет, а земли, находившиеся в условно частном крестьянском владении, не перевел в категорию безусловно частных, но дал их «просто» приватизировать помещикам.
Такое действие царской власти, возможно, и было экономически и политически целесообразным в то время, но безусловно являло собой глубочайшую несправедливость, неправду, которую видели и понимали и крестьяне, и дворяне28. «Крепостное право потеряло свое государственное оправдание, — справедливо писал в своей „Истории России” министр-председатель Временного правительства А. Ф. Керенский. — Оно превратилось из общего для крестьян и дворян тяжелого государственного тягла в рабовладение, ничем не оправданное, кроме сословных дворянских интересов. Русское крестьянство эту коренную перемену в природе своего коренного состояния сразу учуяло»29.
Никакую эпоху либерализма указы эти не открыли, как наивно полагал В. В. Леонтович30 и вслед за ним полагают современные отечественные «либералы», но, напротив, накрепко закрыли возможность складывания гражданского общества в России. А. С.Пушкин писал, что, хотя указами о «вольностях дворянства» «предки наши столько гордились», они их «справедливее должны были бы стыдиться»31.
Дело в том, что не только в системе сотерической, но и эвдемонической аксиологии порабощение граждан, отнятие их имуществ не может не переживаться как преступление и нарушение основополагающих принципов властвования. Во благе подданных — благо царя, в их счастье — его счастье. Не следует забывать, что в древности институт монархии возник как религиозная форма, помогающая народу победить узы греха и смерти32, а когда Царство «не от мира сего» и земная царственность были разделены христианством, правитель освящался Церковью как гарант безопасности и благополучия народа в его земном шествии к вечности. Но о каком счастье и благополучии большинства населения России могла идти речь, когда его превращали в рабочую скотину для дворян и в сырье для строительства великой империи?
И преступление русского рабства усугублено было тем, что порабощались братья и сродники. Люди одного русского племени становились и рабами, и рабовладельцами. Имея в виду единство всего человеческого рода, рабство отвратительно всегда, но особенно отвратительно оно среди единоплеменников. Не случайно закон Моисея категорически запрещал евреям обращать в вечное рабство евреев же. «Если купишь раба Еврея, пусть он работает тебе шесть лет, а в седьмой год пусть выйдет на волю даром» (Исх. 21: 2). Закон этот разъясняется далее в книге Левит: «Когда обеднеет у тебя брат твой и продан будет тебе, то не налагай на него работы рабской: он должен быть у тебя как наемник, как поселенец; до юбилейного года пусть работает у тебя, а тогда пусть отойдет он от тебя, сам и дети его с ним, и возвратится в племя свое, и вступит опять во владение отцов своих... Не должно продавать их, как продают рабов; не господствуй над ним с жестокостью и бойся Бога твоего» (Лев. 25: 39 — 43). Но русские православные государи не испугались Бога, именем Которого освящали они престол свой, и жестоко поработили братьев бессрочным, неограниченным и тягостным рабством, нарушив тем не только высший закон Христов («возлюби ближнего своего как самого себя»), но и «ветхий» закон Моисеев.