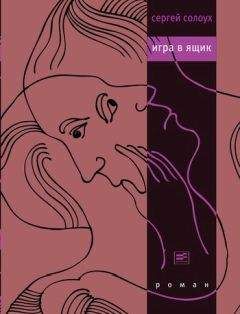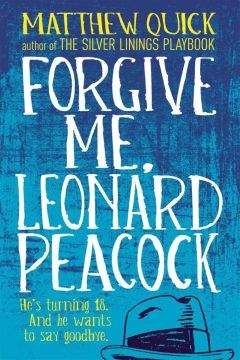– Ни с кем не соглашалась, – закашлялся и засморкался Гарик, – такая сука. Только с тобой. А ты ни херушечки. Умаялась девчонка, уработалась, но вот те фигу, не подняла. Обидел.
Свои штаны Ромка нашел под кроватью, и больше ничего, так и надел на голое тело. Рубашку снял с холодной дужки кровати и, уже на ходу в темном и узком коридоре кое-как натянув, выкатился застегиваться на крыльцо. День стоял неестественной чистоты и праведности. Ромка закрыл глаза и пару минут стоял, прижавшись лбом к холодной металлической опоре сварного навеса. Потом кто-то положил неприятную, обжигающую руку ему на плечо, но ласково, почти любовно пригласил:
– Пошли.
Подцепа повернул голову. Рядом с ним стоял Караулов.
– Пошли, – повторил Гарик.
Рома не понял, куда и зачем, но подчинился. Конечно, все правильно. Уйти. И чем дальше, тем лучше.
От старого барского дома к дырявому птичьему капищу, храму без главок и шатра, вела запущенная длинная аллея.
– Красиво жил генерал Измайлов, – хрюкнул Караулов и с удовольствием сплюнул.
– Кто это?
– Лейб-гвардии гусар, – продолжая катать слюну по всем внутричерепным полостям, добавил Гарик, – хозяин этих мест. Историческая личность. Помещик-самодур. Воспет поэтом Грибоедовым, ну, который А. С. Крестьян, как собак, на цепь садил, а для себя держал гарем из девок-малолеток. Много было грехов на душе, раз прямо возле дома такие минареты выстроил отмаливать, – в завершение процесса очистки организма Гарик сразу не сплюнул, он что-то громко и мерзко втянул в себя носом и только после этого смачно и далеко харкнул.
Через высокую дугу бывших ворот вышли на деревенскую улицу, жестоко расчесанную колеями тракторов вкривь и вкось. Из-за заборов к прохожим тянулись лапки и крылышки вишен, только руку подними, но ни у Гарика, ни у Романа кровавые комочки аппетита сегодня не вызывали.
Довольно длинная улица, сделав два бессмысленных коленца, в конце концов уперлась в неопрятный задок придорожного кафе.
– «Торжок», местная достопримечательность, – объявил Караулов и завел Романа в темный, под старую корчму со стенами из смоленого дуба сделанный зал. Голые прокопченные столы искрились чем-то липким, а длинные скамьи были неровными и неудобными.
Даже пиво, которое принес Гарик, оказалось в тон обстановке, темно-коричневое, как ржаной квас.
– Тоже местный продукт, – сообщил Караулов, погружаясь в роскошную сливочную пену, – где-то тут, в Озерицах что ли, варят. «Крутицкое особое».
Особое оно или ординарное – это не имело для Романа никакого принципиального значения. Придвинутая кружка всего лишь гадко рыгнула, дыхнула селезенкой ему в лицо, и в ответ немедленно захотелось сделать то же самое. Волною встретить волну. Стараясь не дышать, Подцепа поднял бокал и сделал несколько глотоков. Бесполезно, винтом вворачиваясь в пищевод духовитая жидкость, газированной желчью ударяла в нос, в кишки и даже кончики пальцев. Рома закрыл глаза. Какой позор, его сейчас вывернет прямо перед Карауловым. На стол. Но нет, прошла минута, две, и острое, омерзитетельное, внезапно стало превращаться в тупое и приемлемое. Ромка сделал еще один большой глоток. Пошло легко, как молоко. Он поднял голову. С другой стороны стола на него с улыбкой и с явным любопытством пялился Караулов:
– Ого, – подмигнул Гарик, – да ты... да ты, я вижу, в первый раз законно лечишься...
Ромка кивнул. Караулов рассмеялся:
– С почином, – и тут же внезапно на вчерашней многослойной закваске мысли его приняли самый неожиданный оборот: – А ты ведь хохол, Ромка? Хохол ведь, так же?
Никогда за все время своей сибирской жизни, ни мальчиком, ни юношей, ни даже отцом семейства, Роман Подцепа не задумывался о том, что у него записано в паспорте, а что должно быть на самом деле. Здесь, в Москве, за три неполных года интересовались уже, наверное, в пятый раз. То есть каждые полгода спрашивали обязательно. И всегда Ромка вспоминал смешное «працювати» и, пожимая плечами, отвечал: «Ну наверное».
– Это хорошо, – жадно хлебая коричневое, розовел Гарик. – В нашем ИПУ всех в ББ надо быть или евреем, или украинцем. Лучше всего, кончено же, евреем, но хохлом тоже нормально. Жаль, у меня самого бабка из Харькова, а не дед. Был бы Карауленко – вообще проблем не знал бы.
На секунду Гарик задумался, тусклый свет пивной то вспыхивал в его быстрых зрачках, то тонул, не оставляя даже слабенькой искры, и вдруг, как будто найдя наконец свой центр и место, все карауловское лицо озарил улыбкой:
– Да я и так хорошо живу. И знаешь почему? Сказать? Потому, что умею ими пользоваться. Хохлами и евреями. Да. А вот, дурак Прокофьев с ними борется. С жидами. И не понимает, за что профессор наш его не любит. А потому, что профессор наш сам на евреях ездить мастер. Как дойных коров их. Загляденье. Оп-ца-ца и дри-ца-ца. Вот у кого учиться, учиться и учиться.
Гарик допил бокал.
– Тебе еще взять? – спросил он Ромку.
Подцепа отрицательно помотал головой. Треть первого захода еще плескалась у него на дне.
Вернулся Гарик с новой кружкой совсем уже красивый и цветущий. И снова его прихотливо ветвящаяся похмельная мысль выкинула самый неожиданный побег.
– А ты-то, Ромка, какого хрена приуныл? Думаешь, жене на тебя настучат или профессору? Или сразу оперу, раз нынче можно на бытовухе набрать очки?
– Да нет, – смущенно что-то начал объяснять Подцепа, – просто такой момент...
– Кончился момент, – вдруг снова начал качать слюну и шумно харкаться Караулов, – все. Не вышло. Парикмахерские сильно много света жгут после десяти и в магазинах надо платить за сверхурочные, но главное метро ни фига им не резиновое. Всех сразу к девяти им херушки отвезет на Родину пахать. Конфуз. Только вот нас еще погнали сюда в субботу, по инерции, чтобы ни минуты страдной не пропало. Долбо...
Быстрый глаз Гарика неожиданно округлился. Интеллигентно покачивая длинными усами, из-за края стола на клейкую столешницу выступил местный житель – довольно крупный рыжий таракан. Деликатно подышав гузкой, но обстановку оценив трагически неверно, детской скорлупкой, корабликом сорвался и заскользил по влажной диагонали с севера на юг.
– Ах ты, тля пруссацкая, – с восторгом губами чмокнул Караулов и одним молниеносным движением руки прищемил, как яблоко, у него под пальцем хрустнувшую задницу. Оставшиеся усы и ножки взметнулись к небу, задергались, зашевелились, но высокое и черствое осталось глухо к мольбе бессловесного.
– Пошли, – сказал Роман, сам удивившись тому, что незаметно всю свою лечебно-профилактическую дозу принял. Пустая кружка.
– Пошли, ага, – весело согласился Гарик. – Пошли поссым. Я угощаю.
В большой, пионерской столовой в другой части села, у засыпанного крупным остроугольным щебнем змеиного языка – дороги, ведущей вниз, к переправе через Оку, Роман съел большую тарелку жидкой горячей каши и залил литром густого черного чая. Обжигающая пальцы и губы алюминиевая кружка стоила шесть копеек. Мимо правления, мимо футбольного поля с с крашеными досками низенькой двухъярусной трибуны, вдоль по опрятной улице в желто-черных с хрустом лопавшихся под ногами жуках вернулись в барский дом, бывший туберкулезный санаторий, и завалились спать. И сон на этот раз был чистым как свежая простынка, никаких чебурашек и пьяной музыки, лишь бесконечная и ровная январская лыжня.
Далеко за полдень Романа разбудил Караулов и позвал «на распределение». В соседней большой комнате, оказавшейся сегодня вовсе и не комнатой, скорее верандой, опоясанной широкой лентой оконного переплета, уже сидели все, с кем Рома вчера приехал. Только председательствующий, единственный стоявший, а не сидевший на кровати, был не из свежей партии. Рома хорошо его знал, системщик с ВЦ по фамилии Каледин. Ну да, Андрей Каледин. Потом выяснилось, что с этого лета ответственный от ИПУ за шефскую помощь все три месяца кукует тут, в Вешняках. Бессменно и безвылазно сохраняет преемственность и взаимопонимание.
– Все тут? – спросил системщик агрономического профиля.
– Двоих нет. Уехали в Константиново.
– Культурный уровень повышать? – кончиком карандаша Каледин почесал крылышко носа. – Ну и хорошо, за инициативу и проявленную сознательность поставим их штабеливать, как раз два человека нужно.
В нескольких местах впереди и сзади засмеялись.
– Работа для негров, – негромко прокомментировал Караулов, – я, сука, попал в прошлом году. Весь световой день в поле, от зари до зари, да в гробу бы я видел их червонец в день, люди сюда отдыхать приезжают, а не убиваться на их сене...
Продолжения Роман не слышал, все прочее попросту потеряло всякое значение и смысл. Червонец в день? Это же шестьдесят рублей за неделю пребывания здесь. Не рубль двадцать за выход, которые платили на капусте в позапрошлом году. Шестьдесят рублей, практически тринадцатая стипендия получается. Кто бы мог подумать, что тут такая работа бывает! Настоящая.