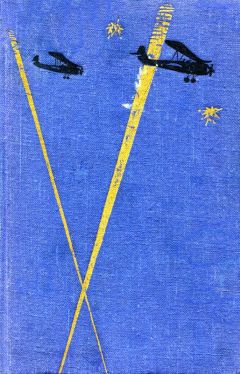Я думал так, или примерно так, я устал, никогда еще ночь не казалась мне такой долгой, она тянулась и тянулась, чуть разбавленная с востока дальней медленной зарей. Я забрел на мост, не тот, через который обычно шли мы с Машей, а другой, поблизости от нашего общежития, проездной, на каменных быках. Проплывая под ним лодке, мы кричали, с шумом плескали веслами — эхо гулко взлетало и падало, отраженное широким сводом.
Наверное, я задремал, облокотясь на чугунный парапет, меня разбудила заурчавшая позади машина. Часы на колокольне пробили шесть. Где-то заговорило радио, донеслась протяжная мелодия гимна.
Странно, я почувствовал себя отдохнувшим. Ветер дующий над рекой, освежил мне лицо. Наверное, ребята в общежитии уже встали. Полковник подал команду «подъем»... А впрочем, не знаю, может быть сегодня и не было команды. Я вгляделся в полоску берега, под общежитием, но то ли мешали еще густые сумерки, то ли самом деле там было пусто — ребят я не увидел.
Когда-то, малышом, отец водил меня в планетарий. Мне запомнилось немногое: вращение звездного неба рассвет над Москвой. На черном фоне осторожно, крадучись начинали пробиваться первые лучи, высветляя силуэты кремлевских башен, Василия Блаженного, мавзолея, прямоугольники зданий, ажурные перекрытия мостов; менялись краски, тона спектра, и все мощней и торжественней нарастала симфония красного цвета...
Потом зажглись обычные лампы, город оказался картонным, я — обманутым. Я горько плакал, отец утешал меня, как мог, но я отказывался и от ситро, и от мороженого...
Я вспомнил о планетарии теперь, стоя на мосту. Так же, как в давнишний тот день, я как бы находился в самом центре панорамы, но не картон, а настоящий, всамделишный город был вокруг. Маленький, периферийный городок — на самых больших картах он обозначен самым мелким шрифтом. Я так случайно оказался здесь и так долго чувствовал себя чужим. Но вот он вошел в мою жизнь, все слилось, соединилось, он стал моим — от вокзала и пристани до кладбища, до неосевшего еще холмика на крайней могиле.
На востоке светлело, все явственней проступали контуры приземистых домов, тонкая колокольня с парящим шпилем, пожарная вышка за поворотом реки.
Я оставил в чемодане все письма, кроме того, что лежало верхним в пачке. Отец писал в нем об убитом товарище, о походе на Врангеля, о панской усадьбе, где расположился их эскадрон. И еще — о мальчишке, которого нашел он в местечке, спаленном белыми, и всюду возил за собою в седле. Оно было со мной, это письмо, мне не хотелось расставаться с ним.
Странно, я никогда не думал о том, где находится могила моего отца. От матери я знал, что его расстреляли. Но ведь где-то есть его могила, должна быть... Я не помню, где похоронена моя мать. Я только помню — степь, окраина станции, водокачка. Мне кажется, я узнал бы то место, но где его искать? Эшелон шел потом до Ташкента трое суток, однако трудно сказать, с какой скоростью ходили тогда поезда.
Я знаю только одну могилу. Одну из трех. И не хочу четвертой.
Конечно, все начнется по заведенной процедуре: фамилия, год рождения, национальность... Но я скажу: подождите, я вот, перед вами, меня не нужно искать, я ничего не утаю, расскажу обо всем, и о моих родителях тоже, конечно, вас, в основном, будет интересовать мой отец. Я расскажу и о нем, хотя вы наверняка все знаете сами.
Но я все равно расскажу. И расскажу еще о многом. Только ответьте мне: не хватит ли могил? Три на одного,— даже если две из них неизвестны, все равно, ведь они где-то есть. Ведь и они — в той же земле, в нашей земле, оглядите, пощупайте, послушайте эту землю. Не хватит ли нам могил, три к одному — ведь это пропорция...
Мне не хотелось встречаться с кем-нибудь из знакомых. Чайная около базара открывалась в семь, я завернул в нее. Здесь было уже полно народа. Я присел за неубранный столик и вспомнил, что денег у меня не осталось. Я взял со стула забытую кем-то газету, развернул ее и отгородился от посторонних взглядов. На тарелке скопилось несколько хлебных горбушек, я пододвинул их к себе и стал есть.
Я съел все горбушки и просмотрел всю газету, когда официантка поставила передо мной порцию макарон и стакан с чаем. Макароны были желтыми от масла.
— Я не заказывал,— сказал я.
— Заказывал не заказывал — ешь, а газету прибери.— Лицо у нее было широкое, рябое, по-бабьи жалостливо-доброе, хотя говорила со мной она сердито. Побросав поднос грязную посуду, она ушла, переваливаясь на коротких толстых ногах.
Я съел макароны и запил чаем, дивясь самому себе, еще вчера мое самолюбие воспротивилось бы этому.
Потом я подождал, пока она очутится рядом, чтобы сказать спасибо.
— Не на чем.— Она даже не взглянула на меня.
На улице уже совсем рассвело, но погода портилась, низкие клокастые тучи обволакивали небо, грозя не то снегом, не то дождем. Я потуже запахнул пальто и пошел быстро, не осматриваясь по сторонам, той же дорогой, какой наутро после ареста Сосновского мы шли вместе с Натальей Сергеевной. Идти было недалеко.
Но мне вдруг захотелось, чтобы путь этот оказался долгим, возможно более долгим. Не потому, что я в последние минуты почувствовал страх — нет, но теперь, в блеклом свете дня, мои ночные мысли утратили прежнюю точность и яркость. Какую-то фальшивинку ощутил я в них, в чем? Я как будто вновь услышал голос Олега: юродство, ты ведь сам знаешь, что ничего не добьешься...
Я почувствовал, как под шапкой у меня взмокли волосы. Дорога покачнулась и стала стремительно уходить из-под ног. На расстоянии шага от меня, громко сигналя, промчался автобус, шофер из кабины погрозил мне кулаком.
Автобус, подумал я, автобус... Причем здесь автобус?..
Да, вспомнил я, автобус!.. А может быть, это и есть тот самый автобус? Тот самый... Его почистили, помыли — и снова пустили на линию... Тот самый...
Брюки и полы пальто были забрызганы грязью. Я не касался ее: мне казалось, это не грязь, а кровь.
Хорошо, думал я, пусть я ничего не добьюсь... Но я сделаю все, что смогу. Я не уйду оттуда. Пусть это все, что я смогу сделать. Когда сделаешь все, что мог, и уже ничего не можешь, всегда есть еще одна, последняя возможность: встать рядом. Встать рядом, чтобы остаться самим собой.
Ночная стройность вернулась ко мне.
Около длинного серого здания было безлюдно. К входу вели три каменные ступени, сужаясь наверху, перед двустворчатой дверью с массивными бронзовыми кольцами вместо ручек.
А ведь она говорила об этом, вспомнилось мне, там, в аудитории на третьем этаже. Она говорила об этом, она всегда говорила о самом простом...
Шел февраль 1953 года. Я еще не знал — ни того, что случится через месяц, ни — тем более — того, что произойдет спустя три года. Я ничего не знал.
Я шагнул раз, другой, третий, подумал о Сосновском, о травинке на бруствере — и открыл дверь.
1966 - 86