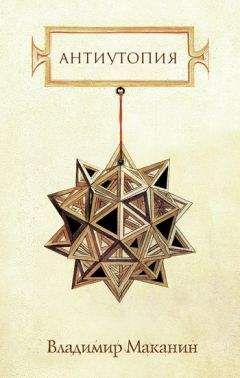Ключарев сомневается – Дениска вряд ли сюда пролезет.
– Мы его протиснем, разом возьмем за ноги, за руки – и полный вперед!
Чурсины хорошие люди, особенно когда они в энтузиазме, – более того, они из тех чудесных людей, кто готов поделиться, даже когда сам настигнут бедой. Однако Ключарев знает, что в этой замечательной цистерне (если нас слишком много) станет нечем дышать. Что касается Дениски, один раз его, возможно, и протолкнут, ободрав ему кожу, а в другой и в третий раз? а как Дениска втиснется, если ему придется на время остаться одному? А если все побегут, куда побежит он?.. Мой мальчик. Он сядет в том малиннике и никуда более не двинется. Будет сидеть рассматривать листики.
Галка Чурсина расспрашивает Ключарева о его жене, они подруги; ты, Ключарев, запрети ей выходить на улицу – это опасно, да и есть ли хоть что-то сейчас в магазинах?.. Чурсин в эту самую минуту с энтузиазмом рисует Ключареву закрытое ведро, он придумал, как его сделать. Надо иметь одно-два закрытых ведра. Ну, типа лейки, только с отрезанным носом. Опять забота: лейку достать, примус достать. Все трое (включая Ключарева) возбуждены, говорят чуть не разом; красивая дочка молча их слушает. Вторая красавица дочь и вовсе стоит поодаль, все так же со свечой в руках – как мадонна. Рядом с ней освещенные колеблемым светом ряды банок сгущенного молока.
Ключарев говорит – да, заботы; но для нас есть еще одна забота – надо хоронить Павлова.
После этого они молча сидят долгую печальную минуту. Павлов их друг.
Мало-помалу разговор сам собой катится к уже предвиденной Ключаревым ссоре. Это понятно: Галка не хочет отпускать мужа, не хочет отпускать своего Чурсина, такого энергичного и находчивого интеллигента с детдомовским прошлым. Ей без него страшно. (Ей и двум подрастающим дочерям без него не жить.) А ведь Павлов умер, и его уже не спасти.
– Я уверена, что Павлова похоронят. Оле непременно сообщат, где он похоронен, – ничего случайного в таких делах не бывает. Люди везде люди...
Оля беременна. Оля сейчас одна – вот довод Ключарева.
Но зачем? тем более зачем ей сейчас появляться на темных улицах?
– Но, Галя! Возможно, Павлова надо забирать. Он валяется в морге какой-то приинститутской больницы. Кому он нужен, подобранный на улице?
– Значит, его похоронят, если уж подобрали! Как раз в этих учреждениях люди работают во все времена и при всяких переменах.
Ссора. Только дочь молчит, смотрит на свечи, горящие на маленьком столике; подперла щеку рукой. Вторая дочь со свечой все еще в глубине комнаты-цистерны.
Чурсин нервно объясняет жене – керогаз, мол, нужен, термос нужен, их надо достать, а чтобы достать, Чурсину все равно надо уйти с дачи и поехать в город.
– Мы с тобой и трех часов здесь не проживем, если не обеспечим себя керогазом или примусом загодя! – кричит он жене.
И... подмигивает Ключареву.
Ключарев понял, он прощается. Он извиняется, что принес в их дом столько шуму, и просит Галку его простить – такое сейчас время. До свидания. Он передаст привет жене и Денису. Спасибо.
Он уходит, а Чурсин его нагоняет (он ведь должен Ключарева проводить!). Едва они вышли за малинник, Чурсин бранит себя: он увлекся спором и забыл, что с женщинами не спорят, а немножко их обманывают и отвлекают. Да, да, обманывают чуть и чуть отвлекают.
Кстати сказать, разумные лидеры именно так поступают с неспокойным народом. (Этим камешком Чурсин бросает в верха: в отличие от Ключарева он не верит в лидеров, он не верит в их помощников и высших чиновников, в весь этот пульсирующий рой, слепо кружащий над нами.) Не столько обмануть, сколько отвлечь, вот как надо, – через полчаса Чурсин еще раз поговорит с женой и убедит. И непременно ее убедит. Уверен? Абсолютно. Так что самое большее через час-два освобожусь – и встречаемся мы с тобой прямо у Оли Павловой.
Они идут мимо дач; за весь долгий путь ни души. Люди затаились. Чурсин показывает дачу некоего Веретенина-Воронина, ограбленную уже трижды, – унесли посуду, унесли даже одеяла. Хозяева давно куда-то слиняли.
– Считается, что первыми начнут грабить тех, кто на дачах. Таково мнение народа, – уважительно сообщает Чурсин. – Вот там металлические засовы. А там пудовый замок, кто как может!.. Но вот если пройти по тому проулку, ты увидишь заборы, обтянутые колючей проволокой. Ей-ей. Страх – двигатель регресса. Однажды среди ночи я слышал, как опробовали старый пулемет. Не шучу! Да ей-богу! Я тоже сначала подумал, что «калашников» бреет, однако прислушался, не-ееет – подстукивает самый настоящий пулемет. Разгадка проста: среди наших дач есть дача музейного работника, из Музея Гражданской войны, разумеется, он и принес. Украл, разумеется. Почему бы и нет, если наш истопник в котельной – мужик рукастый и умелый и починить «максим» ему никакого труда и никаких расходов. Если же «максим» починить, штука надежнейшая. У тебя нет знакомых в музеях?
Шутит, но и не шутит – таков Чурсин. Энергично объясняет, размахивая рукой. Вот так же приободряет Чурсин свою пугливую жену и своих молчаливых красавиц дочерей. Старается добыть керогаз. Прибивает доски к забору. Хлопочет с незащищенной своей дачей, хлопочет с бункером. (Как и спохватившийся Ключарев со своей пещерой.)
Они прощаются, после чего Ключарев идет по дороге, выводящей на автобусный маршрут. А Чурсин сворачивает на левую просеку. Чурсин говорит, что этим путем ему возвращаться ближе.
Но Ключарев догадывается, почему выбрана левая просека. Таким образом Чурсин пройдет мимо той опушки. И мимо того поворота дороги, где сосна. И постоит там минуту. Обретение пространства.
АВТОМАТЫ С ГАЗИРОВАННОЙ ВОДОЙ, они самые. Но сначала Ключарев на пустынной улице у витрины магазина видит пугливого вора. Боязнь вора – это как раз естественно, но надвигающаяся ночь несет, вероятно, некий общий страх, и Ключарев сознает, что в этом чувстве он с вором един, совпадает. Витрина темна (гладь ее как гладь темной воды), и стоящий там вор словно прилип. Вор невиден. Он, кажется, пытался взрезать витрину и проникнуть в магазин, – Ключарев вдруг видит, как тот стоит на коленках, прикладывая к стеклу линейку, и камешком, вероятно, эрзац-алмазом, пытается отрезать угол стекла.
Он похож на старательного ученика со своей линейкой. Тихий скрежет. Ключарев догадывается, что это вор, только когда оказывается в шаге от него и когда тот, схватив свою линеечку, срывается с места и скрывается за углом. Страх ночного вора?.. Ключарев слышит удаляющиеся шаги, словно вор бежит на тонких-тонких ножках – такие вот ломкие звуки, – и с внезапной ясностью Ключарев понимает, совместившись, что и этот вор, и он, оба они боятся толпы. Этим переболеть. Опережающим слухом (опережающим знанием) Ключарев слышит не существующий пока топот тысяч ног на улице, шрах-шрах-шрах-шрах!..
Темнеет. На улице ни единой машины, ни автобуса и, конечно, безлюдье – Ключарев пересекает гладь улицы напрямик. Никаких правил перехода, он идет, чтобы сразу и круче свернуть в переулок, и вот тут, на повороте, натыкается на автоматы с газированной водой. Ключарев больно ударился о край одного из них. (Единственный горящий фонарь стоит далековато, у подземного перехода.) Ушибся. Узнал. Волна узнанной (но не выпитой) газировки ударяет ему в нёбо. Слюна обжигает нёбо, горло, душу. Глаза слезятся. Забытое удовольствие торопит Ключарева найти в карманах монетку. Нашел. Бросает в щель. Не работает. Другой автомат. Не работает. Но Ключарев все упорствует, бросает. Нет. Нет... но вот зашипел, смотри-ка, срабатывает. И поскольку никаких, конечно, стаканов, Ключарев торопливо подставляет ладони ковшом, набирает пузырящейся долгожданной жидкости, пьет, припав. И, когда вода кончается (так скоро!), мокрыми ладонями отирает лицо.
Когда улица пуста до самого горизонта, человека, тем более нескольких, замечаешь мгновенно: на другой стороне Строительной улицы, не на тротуаре, а в глубине меж двух зданий, Ключарев видит мужчин, которые насилуют женщину, поставив ее на колени. Двое держат, справа и слева. Третий стоит прямо перед ней и, расстегнув брюки, сует ей в лицо, в рот. Все молча, все как в немом фильме, с некоторой даже медлительностью, и все совершенно понятно в этой притихшей полутьме.
Героического желания метнуться к ним через улицу в Ключареве не возникает, нет также желания, вступившись за нее, получить ножом под ребро, ибо в известном смысле это их час, это их время – такова полутьма. Однако срабатывает инстинкт (или это осознанное чувство?) не дать хотя бы ее убить. Ключарев пересекает улицу и, надвигаясь на них, кричит: «Эй! Твари!..» – голос Ключарева угрожающ, но идет Ключарев к ним, конечно, медленно. Да, спугнуть. И в этом смысле опыт с тем магазинным вором – свежий опыт. «Эй! твар-ри!..» – второго его рыкающего крика хватает, ибо тут они туда-сюда оглядываются, бросают ее и скрываются, бегут двое, потом и последний. Ключарев подошел. Она уже поднялась с колен, идет, она молодая, Ключарев идет с ней рядом и выговаривает ей с укором, нельзя же, мол, в такой час выходить на улицу, разве она не знает. Стареющий человек в шапочке с помпоном; правда, шапочку он потерял. «Да ничто, – говорит она хрипловато. – Ничто».