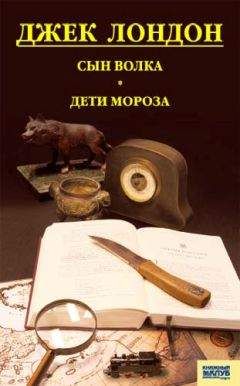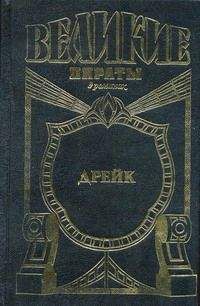— Это большой конец, Киш, — сказала она, — большой конец от Миссии св. Георгия по Юкону.
— Да, — отвечал он, не переставая о чем-то думать и устремив глаза на пояс и мысленно примеряя его. — А где же нож? — спросил он.
— Вот он. — Она вынула его из складок своей парки, и лезвие засверкало в отсветах огня. — Это очень хороший нож.
— Дай мне его! — сказал он властно.
— Нет, о Киш, — засмеялась она. — Я думаю, что ты родился не для того, чтобы его носить.
— Дай мне его! — повторял он, не меняя тона. — Я родился для этого.
Но ее глаза, заигрывая, скользнули мимо него к оленьей шкуре, и она увидела, что снег вокруг нее покраснел.
— Это кровь, Киш? — спросила она.
— Да, это кровь. Но дай мне пояс и длинный русский нож.
Она испугалась и вся содрогнулась, когда он грубо вырвал у нее из рук пояс, содрогнулась от его грубости. Она ласково посмотрела на него и почувствовала боль в груди и маленькие ручки, цеплявшиеся за ее шею.
— Он был сделан для человека поменьше, — угрюмо заметил он, втягивая живот и с трудом застегивая пряжку пояса.
Су-Су улыбнулась, и ее глаза взглянули на него еще нежнее. На него приятно было смотреть, и пояс действительно был ему узок; ведь пояс был сделан для другого, не столь крупного человека, но не все ли равно? Она может сшить и другой пояс.
— Но что это за кровь? — спросила она, побуждаемая все растущей надеждой. — Что за кровь, Киш? Или… может быть… это головы?
— Да.
— Они, верно, только что отрезаны, иначе кровь бы замерзла.
— Да, теперь нехолодно, и головы совсем свежие, только что отрезанные.
— О Киш! — Глаза ее горели, и лицо сияло. — Это для меня?
— Да, для тебя.
Он захватил уголок шкуры, поднял его, и головы покатились на снег.
— Три, — прошептала она, — нет, по крайней мере четыре.
Она сидела, потрясенная. Вот они лежали — нежное лицо Ни-Ку; морщинистое, старое лицо Ноба; Макамук усмехался ей своей приподнятой верхней губой; Нассабок, по старой привычке, опустил ресницы над девичьей щекой, словно подмигивая ей. Вот они лежали, освещенные играющим пламенем костра, и снег вокруг каждой из них окрашивался пурпуром.
Жар костра растопил белую корку снега под головой Ноба, и она, словно живая, покатилась, повернулась и остановилась у ног Су-Су. Но та не двинулась. Киш тоже сидел неподвижно и, не мигая, не сводил с нее пристального взора.
Отягощенная снегом сосна стряхнула с себя груз, и эхо глухо повторило звук по ущелью, но ни один из них не шелохнулся. Короткий день быстро убывал, и темнота начала спускаться над стоянкой, когда Белый Клык направился к огню. Он остановился при виде незнакомца — его никто не отгонял, и он подошел ближе. Но обоняние быстро отвлекло его внимание от огня, ноздри его зашевелились, и шерсть стала дыбом: не обманывающий инстинкт привел его прямо к голове хозяина. Сначала он ее осторожно обнюхал и лизнул лоб красным языком. Затем сел, поднял нос кверху, к первой, едва блеснувшей звезде и завыл протяжным волчьим воем.
Этот вой привел Су-Су в себя. Она поглядела на Киша, вынувшего из ножен русский нож и напряженно следившего за всеми ее движениями. Его лицо было решительно и твердо, и она прочла на нем закон. Откинув назад капюшон парки, она обнажила шею и встала. Окинула долгим взглядом темный лес, окружавший прогалину, далекие звезды на небе, стоянку, лыжи в снегу — последний, прощальный взгляд на жизнь. Легкий ветерок налетел сбоку и приподнял прядь волос. Глубоко вздыхая, она повернула голову, и ветер подул ей прямо в лицо.
Потом она подумала о своих детях, которым не суждено родиться, подошла к Кишу и сказала:
— Я готова.
Кровь за кровь, род за род.
Закон племени Тлинкет— Слушай теперь о смерти Лигуна…
Рассказчик остановился, или, вернее, сделал передышку и многозначительно посмотрел на меня. Я поднял перед ним, сидящим у костра, бутылку, отметил пальцем размеры глотка и передал ему, недаром ведь Палитлума прозвали Пьяницей. Много историй рассказал он мне, и я давно уже ждал, чтобы этот хранитель неписаного предания заговорил о временах Лигуна: из всех людей на свете он один хорошо знал те времена.
Он откинул назад голову и забормотал, довольный; скоро послышалось бульканье, и на неровной поверхности находившегося позади утеса заплясала чудовищная тень человеческого туловища под громадной опрокинутой бутылкой. Палитлум оторвался от бутылки, ласково причмокнул и грустно поглядел вверх, на северное сияние, игравшее на бледной синеве летнего неба.
— Удивительный напиток, — сказал он. — Холодный, как вода, и горячий, как огонь. Пьющему он придает силу и у пьющего отнимает силу. Стариков он превращает в юношей, а юношей в стариков. Усталого он заставляет встать и идти вперед, а бодрого погружает в сон. Мой брат, обладавший сердцем кролика, выпил его и убил четырех врагов. Мой отец был подобен матерому волку, скалящему зубы на всех людей; но когда он напился, то побежал от врага и был убит выстрелом в спину. Очень удивительный напиток.
— Это «Три Звездочки», — да и качество ее лучше, чем та бурда, которой они отравляют свои желудки там, внизу, — ответил я, протягивая руку над зияющей черной бездной и указывая вниз, где далеко на берегу виднелись огни костров — крохотные огоньки, дающие ощущение реальности окружающего мира.
Палитлум вздохнул и покачал головой.
— Поэтому-то я и нахожусь здесь с тобой.
Тут он обласкал бутылку и меня взглядом, красноречивее всяких слов говорившим о его бесстыдной любви к выпивке.
— Нет, — сказал я, пряча бутылку. — Расскажи о Лигуне. О «Трех Звездочках» мы поговорим после.
— Бутылка полна, а я ничуть не устал, — нагло клянчил он. — Дай, я приложу ее к губам и расскажу тебе о великих подвигах Лигуна и его конце.
— У пьющего он отнимает силу, — передразнил я его, — а бодрого погружает в сон.
— Ты мудр, — ответил он без гнева и обиды. — Ты мудр, как и все твои братья. «Три Звездочки» всегда при тебе, когда ты бодрствуешь и когда ты спишь, но я никогда не видел, чтобы ты был пьян. Вы забираете себе золото, скрытое в наших горах, и рыбу, что плавает в наших морях, а Палитлум и братья Палитлума роют для тебя золото и ловят рыбу и рады, когда ты с высоты своей мудрости соизволяешь им приложиться губами к «Трем Звездочкам».
— Я собрался послушать о Лигуне, — нетерпеливо сказал я. — Ночь коротка, а нам завтра предстоит трудный путь. — Затем я зевнул и сделал вид, будто хочу встать, но Палитлум встревожился и приступил к рассказу.
— В годы старости Лигун хотел, чтобы между племенами царствовал мир. Юношей он был первым среди воинов и вождем над всеми вождями островов и проливов. Все дни его были заполнены войной. Ни у кого на свете не было на теле столько ран, сколько у него; эти раны нанесены были и костяным оружием, и свинцовыми пулями, и железными ножами. Он имел трех жен и от каждой жены по два сына; но сыновья его, начиная от рожденного первым и кончая родившимся последним, погибли, сражаясь рядом с ним. Беспокойный, как медведь-плешак, он рыскал далеко по всей стране, до Аляски и Мелководья на севере; забирался к югу до островов Королевы Шарлотты и, говорят, прошел с кэйксами до дальнего Пюджет Саунд[6], где убивал твоих братьев в их защищенных домах.
Но, как я уже говорил, в старости он хотел установить мир между племенами. Не потому, что стал трусом или слишком дорожил спокойным местечком у очага и полным котелком пищи. Он убивал людей с кровожадностью и злобой, стягивал живот в голодные дни и вместе с храбрейшими юношами пускался в путь по бурным морям и опасным дорогам. Но в наказание за такие деяния его увезли на военном судне в твою страну, о Волосатое Лицо и Человек из Бостона, и прошло много лет, пока он вернулся, и я уже был тогда не мальчик, но еще не стал мужчиной. И Лигун, оставшийся бездетным на старости лет, привязался ко мне и приобщал меня к своей мудрости.
«Сражаться хорошо, о Палитлум», — говаривал он… Нет, о Волосатое Лицо, в те дни меня не звали Палитлумом, а называли Оло-Вечно-Голодный. Пьяницей я стал после. «Сражаться хорошо, — говорил Лигун, — но это глупо. Я своими глазами видел, что в стране людей из Бостона жители не сражаются друг с другом и все же они очень сильны. Благодаря своей силе они выступают против нас на островах и проливах, и мы рассеиваемся перед их взорами, как дым костра или морской туман. Поэтому я говорю тебе, что сражаться очень хорошо и приятно, но глупо».
Поэтому-то Лигун, бывший прежде среди воинов первым, теперь громче всех заговорил о мире. Он был величайшим из вождей и самым богатым из всех и, достигнув глубокой старости, он задал потлач. Никогда еще на свете не бывало такого пира. У берега выстроилось пятьсот каноэ, а в каждом прибыло не менее десяти мужчин и женщин. На пир явилось восемь племен; приехали все, начиная от дряхлых стариков до новорожденных младенцев. Прослышав о пире Лигуна, прибыли, не побоявшись долгого пути, и мужчины из отдаленных племен. И в течение семи дней все они наполняли себе желудок яствами и напитками. Он роздал им восемь тысяч одеял. Я хорошо знаю это, ибо кто, как не я, вел счет и распределял их соответственно роду и заслугам каждого. К концу пира Лигун стал бедняком, но его имя было у всех на устах, и другие вожди скрежетали зубами, завидуя его величию и славе.