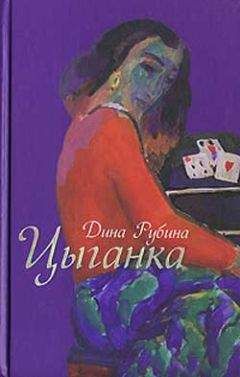Ознакомительная версия.
Подошли к приземистой, вросшей в темя горы, хлебопекарне, и когда поднялись по бугристым разновысоким ступеням на крышу, я поняла, почему именно сюда нас вела игуменья.
С этого места распахивалась волнистая складчатая ширь до самого Мертвого, а в точном переводе с иврита — Соленого, блескучей полоской на горизонте, моря. За ним, вернее над ним таяли в розовой мглистой зыби Иорданские горы, библейские горы Моава.
Это здесь, здесь остывали горны Господней кузни, здесь высыхала первозданная глина, из ошметков которой подручные ангелы лепили первого человека. Это здесь скрывался беглый Давид от ревнивой мести Саула. Это в здешней скале выбивали погребальные пещеры для иудейских царей и пророков.
— Вот, видите… – проговорила игуменья, щурясь от слепящего света под козырьком пухлой ладони. – Тридцать лет назад вокруг были только пустынные горы и такое безмолвие, такая глубинная тишь… Никого между тобой и Богом, никого… Зря, что ли, сюда уходили пророки — за Божьим откровением. А сейчас, видите… Сейчас уже никто сюда не протиснется.
Она не продолжала. Только рукой махнула.
Сегодня к самым стенам монастыря буквально впритирку подобрались строения арабской деревни Азария. Их и домами не назовешь. Ставят их быстро, за ночь возводят фундамент и стены, а закончить постройку можно через много лет. Главное — место занять. Склоны Елеонской горы давно уже сплошь заставлены пустыми коробками недостроенных домов, лишь на закате ветер воет в оконных проемах.
Целый час мы бродили по монастырским угодьям, и я, сама уже устав, только удивлялась, что игуменья, одышливо преодолевая подъемы, упрямо длит прогулку.
В уютной и совершенно безлюдной церковке она поддела и сдвинула ногой ковер — открылся дивный мир: цапли с крендельно изогнутыми шеями, лиловые голубки, серебристые косули в прыжке. Это и была старинная мозаика армянского периода со странным углублением к краю, тоже выстланным мозаикой. Словно тут точнехонько упал тяжелый шар, промяв, но не разбив мозаичное полотно.
— Вот, – спокойно проговорила Матушка и перекрестилась. Ее лицо было забавно разделено красным и синим, проникающим сквозь витражи окон, арлекинным светом. И щепоть руки, перемещаясь от лба к плечам, меняла цвет с красного на синий. В этом было что-то мистериальное. – Тут и свершилось обретение главы Иоанна Предтечи.
Так это здесь служанка Ирода захоронила украденную голову Крестителя…
В моей памяти немедленно возникла рука отца, смиряющая трепет листов альбомного разворота, и глянцевая от утреннего света из окна головка Саломеи на репродукции с картины Гюстава Моро «Танец Саломеи». Склоненная прелестная головка; впрочем, в ней таилось что-то змеиное. И детский мой ужас при виде отсеченной мужской головы на искусно выбитом блюде, головы бородача, в точности похожего на соседа дядю Борю; головы, невозмутимой в своем отделенном величавом одиночестве.
«Понимаешь, – говорил мне по приезде в Иерусалим один литератор, давний к тому времени житель Иудейских гор, – главный культурный шок у нашего брата-европейца с какой-нибудь Большой Якиманки или Васильевского острова возникает здесь отнюдь не от пейзажа непривычного или там орущего осла. Самый-то шок — от внезапного открытия, что все они были . Все они , которых наш брат-европеец видал на картинах художников в Третьяковке или Эрмитаже, про которых, наравне с историями о Зевсе и Артемиде, рассказывала экскурсовод Наталья Ивановна, – все они здесь, оказывается , были, все! И Авраам со своей Сарой, и Яаков со своим колготливым семейством, и куча царей и пророков, и Иисус, и Иоанн Креститель — все, все были тут , неподалеку, в районе твоей поликлиники или прачечной. Вот от этого можно спятить!»
Стол к обеду накрыли в игуменском доме, в большой зале с высоченными потолками.
Вся обстановка этой комнаты — со старой, трижды перекрашенной и четырежды перетянутой мебелью, вышитыми скатертями и салфетками, фикусом в белой керамической кадке в углу, могла бы напомнить комнату служебного персонала в краеведческом музее, или учительскую в какой-нибудь провинциальной школе — если б не мощные стены цитадели и множество на них портретов: архимандриты, игуменьи, начальники Русской Миссии. Всё значительные лица, огромные кресты на рясах, черные бархатные камилавки, смиренно сложенные на коленях ладони и пристальные взгляды из-под монашеских клобуков.
Тут же висели и портреты убиенной семьи последнего императора — истовая любовь игуменьи, переданная ей, вероятно, по наследству деникинским офицером.
На стол подавала бесшумная монахиня средних лет с продолговатым, кротким и даже проникновенным лицом. Иногда она склонялась к Матушке и что-то тихо спрашивала. Та отвечала с непередаваемой интонацией в голосе: спокойная властность с заботой…
Вдруг тонно дрогнул воздух, и снаружи поплыли ровные ядра плавного гула знаменитого монастырского колокола. Минуты две висела в воздухе тяжелая завеса звуковой волны, пока не истаяла.
— Матушка, – спросила я, – а правда, что этот колокол бабы волоком тянули из самого Яффского порта?
У нее была хорошая улыбка, простодушная такая. И, видимо, ей нравилось, что я, посторонний человек, так уважительно интересуюсь историей общины.
— Да-да, семь дней катили вручную, из самого Яффо… триста восемь пудов!
— Это сколько же… на килограммы? Она задумалась, прикидывая в уме.
— Да около… пяти тонн, пожалуй.
— Нет, Матушка, – возразила моя приятельница. – Он с виду совсем не такой тяжелый.
— Ого, – улыбнулась игуменья. – Поболе двух метров в диаметре. Из Яффо катили еще так-сяк, а вот как в нашу гору заволакивали, по этим тропинкам в скале, на эдакую витую крутизну! И тут к ним уже несколько тыщ паломников присоединились… Тянули-тягали волоком, на остановках пели «Спаси Господи люди Твоя…» — и вкатили! Такой вот отрадный колокол отлил мастер, Ксенофонт Веревкин: сам он да-а-авно уже в Соликамской земле истлел, а голос его работы каждый день радуется-гудит!
Опять возникла молчаливая сноровистая монахиня, принялась собирать тарелки после борща.
Я огляделась. На стенах позади и вокруг меня рядами висели иконы. Частью старые, в широких золотых окладах, почерневшие (персонажи на них скорее угадывались по еле различимому сочетанию цветов: у Богородицы синее с красным, у Христа — пурпур с голубым), они являли образцы традиционного иконописного закона. Большие зоны локального цвета, иерархически выстроенное плоскостное пространство: самые важные фигуры даны четкими силуэтами, словно бы выступают за пределы иконы, святые помельче затуманены в глубине.
Среди прочих висели две небольшие, новописанные, но отменного качества. Более лапидарные по цвету, без этой патины времени, которая придает особую тональность доске, – они в то же время и более открытыми были, распахнутыми, даже радостными. И сочетание цветов: красная, зеленая, вишневая одежда святых на золотистом фоне, и лики, смотрящие прямо — с прорисованными, глубоко сидящими глазами, – сообщали этим доскам наивную декоративность и праздничность.
— Сколько у вас замечательных икон, Матушка, – проговорила я, улучив минуту. – Я не очень в них разбираюсь, вижу только, что есть и старые, и, наверное, ценные. Правильно?
— Есть и ценные, конечно… Вон, вверху, слева — век восемнадцатый, не ошибиться бы… Если не семнадцатый.
— А те? – Я показала на две новописанные. – Это ведь явно недавнее приобретение?
— Зачем же приобретение, – заметила она, подцепляя кружок помидора на вилку. – У нас тут свое натуральное хозяйство… – И кивнула вслед уносящей стопку грязной посуды монахине: — Вон, иконописица наша…
— Как?! – мы с Кирой одновременно ахнули. На ходу обернувшись, монахиня кротко улыбнулась мне поверх тарелок, легко пересчитала ногами несколько ступеней вниз, к кухне, и скрылась за дверью.
— Поразительно! Да где же она училась? И как попала к вам?
Матушка неторопливо протянула руку, придвигая ко мне баночку:
— К рыбе возьмите вот горчички. Не разочаруетесь: сами делаем. А Александра наша… Это отдельная история. Мы тогда под Иорданией находились, ну и ее бабка сюда принесла из Рамаллы. Мать в семье умерла, осталась куча детей, и эта, малышка, ползала по двору безо всякого пригляду. Что на земле найдет, хоть попку от огурца, хоть куриный помет — то ей и пища. Ну а мы-то маленьких таких не принимаем. Отослали ее в Вифлеем, в греческий православный монастырь, те малышей берут. А потом уже, когда подросла, забрали сюда. С тех пор она у нас… лет уже… постойте… тридцать.
— Но какой талант: чувство цвета, пропорций… И, главное, такая сила и искренность!
Матушка невозмутимо кивнула:
Ознакомительная версия.