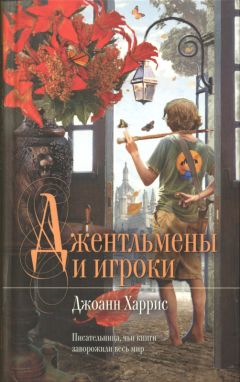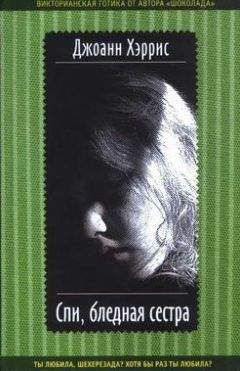— Голубок, — повторяет он с гнусной усмешкой.
А потом ветер меняется, выходит солнце, и он снова становится Леоном, заговаривает о концерте, на который собирается пойти, о волосах Франчески, о том, как они отражают свет, о купленной пластинке, о том, какие у Франчески длинные ноги, о новом фильме про Бонда. На миг я почти верю, что он пошутил, но стоит вспомнить этот ледяной всепонимающий взгляд, как меня охватывает мучительное беспокойство — когда Джулиан Пиритс успел выдать себя?
Надо было сразу положить этому конец. Ясно же, что ничего хорошего из этого не вышло бы. Но у меня не хватало ни сил, ни решимости, душа рвалась на части. В глубине души мне казалось, что я смогу вернуть его, что все станет, как раньше. Как жить без единственной искры надежды на моем беспросветном горизонте? Кроме того, он не сможет без меня. Франческу он не увидит по крайней мере до Рождества. Это дает мне почти пять месяцев. Пять месяцев, чтобы справиться с его одержимостью, избавить от яда, который отравил нашу безмятежную дружбу.
Я балую его, даже больше, чем ему требуется. Но влюбленные зловредны, если не относиться к ним как к смертельно больным, с которыми у них много общих малоприятных особенностей. И те и другие эгоистичны, необщительны, манипулируют людьми, берегут нежность лишь для предмета своей страсти (или самого себя), бросаются на друзей, как бешеные псы. Таков и Леон, и все же он стал мне еще дороже, потому что теперь страдает так же, как я.
Расчесывая болячку, получаешь болезненное удовольствие. Этим и занимаются влюбленные — выискивают самые болевые точки и беспрестанно давят на них, принося себя в жертву любимым с тупым упорством, которое поэты часто принимают за бескорыстие. Для Леона это — говорить о Франческе. Для меня — его слушать. Вскоре мне становится невыносимо — любовь, будто рак, стремится возобладать над страдальцем и лишает его способности говорить о чем-либо другом (навевая смертную тоску на собеседника). И я отчаянно пытаюсь прорваться сквозь скуку его одержимости.
— Слабó? — подначиваю я Леона у входа в магазин пластинок. — Давай. Если, конечно, у тебя яйца еще не отсохли.
Он удивленно смотрит на меня, потом на магазин. Что-то мелькает в его лице — может, тень былых радостей. Потом он ухмыляется, и мне кажется, что в его серых глазах я вижу слабое отражение прежнего Леона, беззаботного и свободного от любви.
— Ты это мне говоришь? — спрашивает он меня.
И мы играем — в единственную игру, которую этот новый Леон согласен принять. А вместе с игрой начинается «лечение»: неприятное, даже грубое, но необходимое, как жесткая химиотерапия в борьбе с раком. В нас обоих полно агрессии — главное, направить ее наружу, а не вовнутрь.
Мы начинаем с воровства. Сначала по мелочам: пластинки, книги, одежда, которые мы сваливаем в нашем маленьком убежище за «Сент-Освальдом». Потом в ход идут снадобья покрепче. Мы малюем граффити на стенах и разбиваем навесы на автобусных остановках. Бросаем камни в проезжающие машины, переворачиваем памятники на старом кладбище, кричим непристойности пожилым людям, выгуливающим собак в местах нашего обитания. Эти две недели я лавирую между ощущением собственной гнусности и ошеломляющей радости: мы снова вместе, Буч и Санденс, и Франческа ненадолго забыта, а трепет, который она вызывала, сменяется восторгом опасностей и риска.
Но ненадолго. Мои лекарства лечат симптомы, но не причину болезни, и я с горечью обнаруживаю, что пациенту нужны все большие дозы возбуждения — если они вообще на него подействуют. Все чаще приходится изобретать новые подвиги, один безобразней другого.
— Магазин пластинок?
— Не-а.
— Кладбище?
— Банально.
— Эстрада?
— Уже было.
Это правда: ночью мы залезли в муниципальный парк и вдребезги разнесли сиденья городской эстрады и ограду вокруг нее. Мне было тошно — сразу вспомнилось, как мы ходили сюда с матерью: запах скошенной травы, хот-догов и сахарной ваты, играет оркестр местной шахты, Шарон Страз сидит на одном из этих синих пластиковых стульев, а я, совсем кроха, марширую взад-вперед под «пом-пом-пом» невидимого барабана, — и на миг стало жутко одиноко. Тогда мне было шесть, и у меня была мать, пахнущая сигаретами и «Синнабаром», и не встречалось в мире ничего наряднее и прекраснее, чем городская эстрада летом, и только плохие люди способны были разрушать.
— Ты чего, Пиритс? — Уже поздно, в лунном свете лицо Леона становится гладким, темным и понимающим. — Больше не хочешь?
Не хочу. Но как сказать об этом Леону? Я же его лечу, в конце концов.
— Давай же, — подталкивает он меня. — Считай это уроком дурных манер.
Ладно, но в ответ я бросаю ему новый вызов. Он велел мне разрушить эстраду — а я подстрекаю его привязать консервные банки ко всем машинам, припаркованным возле полицейского участка. Наши ставки растут, безобразия становятся все более изощренными, даже сюрреалистическими (мертвые голуби, повешенные на ограду общественного парка, цветные граффити на здании методистской церкви); мы уродуем стены, бьем стекла и пугаем маленьких детей по всему городу. И лишь одно место остается нетронутым.
— «Сент-Освальд».
— Не выйдет.
До сих пор мы обходили стороной территорию Школы, если не считать небольшого художества на стенах Игрового Павильона. До моего тринадцатилетия остается всего несколько дней, и столько же — до таинственного долгожданного сюрприза. Отец не подает виду, но я вижу, как он старается. Не пьет, делает зарядку, в доме идеально прибрано, а с лица не сходит жесткая, суховатая усмешка, скрывающая то, что внутри. Он похож на Клинта Иствуда в «Бродяге высоких равнин», растолстевшего, но с тем же прищуром — ожидания последней решающей битвы. Мне нравится его устремленность, и я не хочу это разрушить какой-нибудь идиотской выходкой.
— Ну давай, Пиритс. Fac ut vivas. Немного жизни.
— Какой смысл? — Слишком открыто противиться нельзя, не то он подумает, что я просто боюсь. — Мы уже раз сто его уделывали.
— Но не там. — Его глаза сияют. — Слабо залезть на крышу часовни, на самый верх?
Он улыбается мне, и вдруг кажется, что я вижу того мужчину, каким он станет, его подкупающее обаяние, его необузданный юмор. Любовь обрушивается на меня, как удар, — единственное чистое чувство в бестолковом месиве моего отрочества. Я вдруг думаю, что, если он попросит меня спрыгнуть с этой крыши, я соглашусь.
— На крышу?
Он кивает.
Я едва удерживаюсь от смеха.
— Ладно, залезу, — говорю я. — И принесу тебе оттуда сувенир.
— Не надо. Я сам его достану. Что? — заметив мое удивление. — Неужели ты думаешь, что я отпущу тебя туда одного?
6
Школа для мальчиков «Сент-Освальд»
Среда, 3 ноября
Пять дней прошло, и до сих пор ни слова о Коньмане. О Слоуне тоже ни слова, хотя на днях я видел его в магазине, он отрешенно толкал тележку, набитую кошачьей едой (я думаю, у него и кота-то нет). Я заговорил с ним, но он не ответил. И вообще он выглядел так, будто наглотался сильных препаратов, и я должен признаться, что у меня не хватило духу продолжать беседу.
Все же я знаю, что Марлин звонит ему каждый день, проверить, как он, — добрая женщина, чего не скажешь о нашем Главном, который запретил персоналу Школы общаться со Слоуном, пока дело не прояснится.
Полиция снова провела здесь целый день — трое допрашивали сотрудников, мальчиков, секретарей, и все это с механической деловитостью школьных инспекторов. Для мальчиков организовали помощь по телефону, чтобы они могли анонимно подтвердить то, что уже установлено. Многие позвонили, и большинство твердило, что мистер Слоун не мог сделать ничего плохого. Других таскают на допросы даже во время уроков.
Учить их стало невозможно. Мой класс не желает говорить ни о чем другом, но, поскольку мне было ясно сказано, что обсуждение происходящего только повредит Пэту, я вынужден пресекать все разговоры на эту тему. Все как-то расстроены. Во время урока латыни я обнаружил в туалете рыдающего Брейзноуса, даже Аллен-Джонс и Макнэйр, готовые обратить все в шутку, — вялые и молчаливые. То же творится и с прочими, даже Андертон-Пуллит кажется еще страннее, чем обычно, и даже стал эффектно прихрамывать, что гармонирует с его остальными чудачествами.
Последняя новость — вызов на допрос Джерри Грахфогеля и слух о том, что против него тоже могут выдвинуть обвинение. Ходят и другие слухи, еще чудовищнее — о том, что все отсутствующие преподаватели находятся под подозрением.
Упомянули имя Дивайна, и он сегодня отсутствует, хотя само по себе это ничего не значит. Бред какой-то, но во вчерашнем «Икземинере», со ссылкой на «источники из самой Школы» (мальчишки, скорее всего), появились намеки на то, что за «святыми вратами» (sic!) доброй старой школы раскрыта шайка закоренелых педофилов, весьма известных людей.