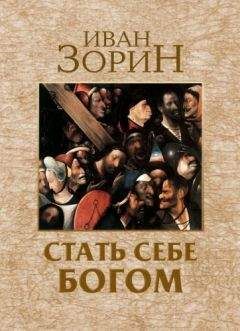Жизнь вообще странная — от неё лечит только смерть. — плеснув Кисмету, он закатил глаза. — Взять вас — думаете, почему ничего не достиг? Вкалывал до седьмого пота, а мне фигу с маслом!
Откуда вы знаете?
Профессия такая. Ещё? — Кисмет накрыл бокал ладонью. — Тогда я один — врач должен лечить себя сам.
Коротко рассмеявшись, он покраснел, точно вино проступило на щеках.
Каждый достоин большего? А вы посмотрите со стороны, беспристрастно.
Я же не Бог.
У врача расширились зрачки. И Кисмет увидел в них себя.
Он возвышался над домиком с заледенелым окном, который выглядел теперь, как бумажный макет, над собой, своим прошлым, мечтами, желаниями, обидами, болью, отчаянием. Не покидая тела, он заполнял весь мир и, став макрокосмом, мог управлять микрокосмом. Распоряжаясь собой, как в компьютерной игре, он стал для себя Богом, передвигая себя, как оловянного солдатика.
Ты прожил, как разведчик на вражеской территории, — по вымышленной легенде, под чужим именем, — услышал он насмешливый голос. — Ты вошёл не в ту дверь, а единственную, предназначенную для тебя, пропустил.
Как и все.
Нет, это ты ошибся поворотом, а твоё место занял Гедеон Жабокрич. Помнишь того, с влажными ладонями? Он ещё верил, что деньги боятся сглаза, и, расплачиваясь в кафе, слюнявил пальцы, отсчитывая купюры под столом? Вы часто спорили — ты говорил, что он нахваливает проекты, которые есть на бумаге, но которых нет в голове.
И Кисмет увидел Гедеона. Однокашник полысел, обрюзг. Пряча под стол волосатый живот, он сидел во главе многочисленного семейства, ел яблочный пирог, и его рот радовался каждому куску.
Сегодня доверяют не отцу с матерью, — пережёвывал он слова вместе с яблоками, — верят не жене или другу, а банковскому счёту. Деньги — отменные служаки. — мгновенье он сосредоточенно работал челюстями. — А люди, чем лучше, тем скорее предадут! — На бычьей шее вздулась вена. — Никому не верьте, даже мне.
Ну что ты, папа, — работая ложками, тянули ему в унисон, — мы и себе-то не верим, родственные связи — не денежные.
Кисмет проскользнул в комнату, как в сон.
А по-моему, от денег одна нервотрёпка: одалживаешь — боишься, не вернут, берёшь взаймы — ломаешь голову, чем отдавать.
Оторвавшись от тарелок, на него подняли головы.
И вот он уже сидел за столом и снова, как в юности, спорил с Гедеоном, приводя истины, в которые больше не верил.
Слушай, а тебя не мучает бессонница? — по- стариковски отмахнулся Гедеон.
Кисмет растерялся.
Бессонницы бывают разные, — пробормотал он. — Когда не можешь заснуть, — лукавая, потому что врёт, а когда просыпаешься посреди ночи — святая, потому что открывает правду.
Ты прав, — уткнулся в тарелку Гедеон, — а я неправильно жил.
Кисмету стало стыдно.
Мы прожили, как могли, и оба не правы, — протянул он шершавую ладонь.
Каждый по-своему, — накрыл её Жабокрич своей мягкой и влажной.
И Александр Кисмет опять подумал, что мир — дурной спектакль, по ходу которого меняются ролями. Он больше не завидовал чужому успеху, не жаждал его себе, поняв, что все живут одинаково. «Мы пользуемся телефоном, летаем самолётами, ездим в автомобилях,
думал он, — а хуже они или лучше — дело десятое. Нас цементирует эпоха, в которой мы, как мухи в янтаре,
питаемся одними новостями, и телевизор на всех один.» Кисмет смотрел на отпрысков Жабокрича, и ему казалось, что среди них не хватает его внучек.
История мыслит поколениями, — заметил он вслух,
современники похожи друг на друга.
Зашаркали стулья, и Кисмет оказался за опустевшим столом.
Выпьем за любовь? — подняв бокал, вернул его домой врач. И, не дожидаясь, забубнил, будто школьник:
Был тихий весенний вечер, цвела сирень, и её аромат окутывал скамейку. Сорвав ветку, юноша отыскал среди цветков пятизвёздочные. «Съешь их на счастье», — прошептал он, и сидевшая с ним девушка рассмеялась, как колокольчик. — Врач уставился в упор, будто выстрелил. — Её звали Александра Тусоблог, у вас были одно имя, один возраст и одно счастье. Помнишь, как при поцелуях она раздвигала зубы, заплетая твой язык своим?
И Кисмет увидел скамейку, хрупкую девушку с веткой сирени.
Но ты посчитал, что молод. Ты вообще всю жизнь осторожничал, будто шёл по болоту. А тебя всё равно женили — связали и словом, и фамилией, только дочь у тебя родилась не от любви.
Но Кисмет не слушал, он стоял у скамейки возле куста сирени, вдыхая густой запах.
Саша, — протянул он руку, — ты меня узнаёшь?
Девушка задрожала.
Это уже не важно.
Почему?
Потому, что я умерла.
Кисмет положил голову ей на колени.
Я могу всё поправить.
Э, нет, — щёлкнул пальцами врач, — даже Богу нельзя распоряжаться чужими судьбами, только своей.
Видение исчезло.
А Тусоблог ждала тебя, у неё были мужчины, но замуж она так и не вышла.
У Кисмета навернулись слёзы.
Как глупо всё получилось, — смахнул он, делая вид, что вынимает соринку. — Видно, судьба такая.
Брось, у тебя и судьбы-то нет! Помнишь, как учитель рисования ставил гипсовые головы, которые отлично у тебя выходили? Ты из тех, кто лучше всех рисует мёртвую натуру, но делать портреты так и не научаются. Тебя всю жизнь заставляли, воспитывали. И ты плыл по течению, подчинялся, сначала из страха, потом по привычке. Но стоило сказать «нет», простое «нет», и ты был бы свободен, потому что все угрозы — пугало для ворон.
И Александр Кисмет понял, что быть себе Богом — значит быть себе судьёй.
Теперь он жалел людей, он увидел, что они поклоняются не Богу или дьяволу, не добру и злу, а бесконечной пустоте, один глаз которой — бессмысленный покой, а другой — бесцельная маета. Он перебирал, как чётки, чужие судьбы, казавшиеся одинаковыми, и не видел среди них своей.
Жизнь так и так кончится, — вертел опустевшую бутылку врач, — вопрос в том, выпить её самому или предоставить другим?
Разгладив пятернёй рыжую шевелюру, он нахлобучил шапку:
А стать себе Богом — значит повернуться к ней боком!
Будто хихикнув, со скрипом захлопнулась дверь.
Кисмет глядел в потолок и думал, что из осколков судьбу не склеить. Его охватила бесконечная жалость к себе. Он снова видел себя ребёнком: в сиреневых сумерках мать собирает его в школу, потом университет, где он попусту спорит с Жабокричем, промелькнула свадьба, о которой он забыл, едва она кончилась, всплыли его проекты — поделки, среди которых не было главного, увидел дочь, выросшую дома, будто на стороне, скупые похороны жены, внучек, которые запомнят его брюзжащим стариком. Вот он снова целится через морозное стекло в летящую галку, вот, схватившись за сердце, скользит по подоконнику.
И он понял, что жизнь можно изменить с любого момента.
Александр Кисмет умер, не коснувшись пола.
Одному человеку обманом всучили чужое произведение. Но со мной это не пройдёт. Я знаю, что книгу слагают тысячи прочитанных страниц, что её соавторы — персонажи, и что каждый читатель, без которого она мертва, расшифровывает её по-своему.
В книге двадцать девять рассказов о героях. И тридцатый — об авторе.
Первобытный народ (нем.)
Последний довод (лат.)
ПИСЬМО, ПРИШЕДШЕЕ МЕСЯЦЕМ РАНЬШЕ Дорогой Нестор!
Ты спрашиваешь, отчего я так долго не писал? Из-за кассовой недостачи, снега и странной ошибки «дирижёра».
Но всё по порядку.
Ты, верно, слышал, что в наших северных филиалах в последнее время часто ссылались на форс-мажор? Чтобы снять подозрения, я и вылетел на Север. Стоял декабрь, мне казалось, что к Новому году всё прояснится, и я успею вернуться домой.
Но дело оказалось запутанным.
День за днём я проверял бухгалтерию, как жену Цезаря. И постепенно нащупал «крысиную» тропу, ведущую в наш Центр. Поначалу мне улыбались так широко, что я опасался за их скулы. Но потом стал ловить косые взгляды и отвечать на вялые рукопожатия. Однако пришли новогодние праздники, и все обиды казались забытыми. Меня пригласили за город, пообещав, что соберутся только свои.
«Своих» оказалось человек шестьдесят. Вместе с жёнами и любовницами. Особняк высился над деревней, как Гулливер над лилипутами, а его стены пугали местных жителей, как первые церкви — язычников. Так что вокруг — ни души.
Вечер начался ходко. Старый год выпроваживали долго: он, как еврей, прощался, но всё не уходил. Так что к полуночи все были пьяны.
С боем курантов выбежали на улицу. Звёзды сияли, как в дни нашей молодости. Кто-то лепил снежки. По-моему, я первый швырнул снежок в чью-то спину. Меня поддержали. Все были против всех, и комки летели куда попало. Но вскоре разделились на команды. И тут начались странности. Люди из моей команды перетекали к противнику. Я не понимал, что происходит, но бросал снег в разные стороны. Неожиданно я остался один. Все были против. Сквозь летящий снег я вдруг увидел мрачные, сосредоточенные лица, слаженный оркестр, за которым мелькала тень дирижёра. А снежки стали с арбуз! Я уже стоял по пояс в сугробе и не мог шевельнуться. А через минуту снег накрыл меня с головой. Звуки исчезли, свет померк. Я вспомнил о пистолете, но руки не слушались. Я уже задыхался. «Это конец!» — пронеслось у меня. Однако мозг не сдавался. Невероятным усилием я всё же заставил себя достать пистолет и спустить курок. Лунка от выстрела сыграла роль «камышины». А к утру пошёл дождь…