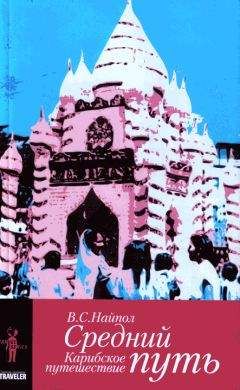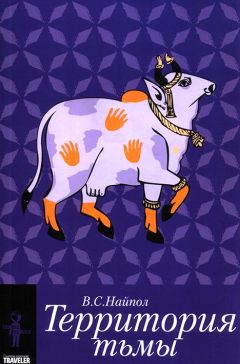У Анки Бертран, фольклориста и оригинального, вполне состоявшегося фотографа, в этот вечер была репетиция народных танцев. Репетиция проходила в прибрежном поселении в низкой case[36] из рифленого железа, оклеенной изнутри газетами Françe Soir. Масляная лампа была с длинным тонким стеклянным колпаком, который отбрасывал длинные театральные тени. Барабанщики поставили свои барабаны на стол. Были еще музыканты, стучащие палками, и аккордеонист. После долгой болтовни расчистили место для танцоров, и они начали. Танцевали bel-air. Дамы были пожилые, в больших соломенных шляпах, один мужчина был в белом тропическом шлеме. И в этой темной case, куда набились плохо одетые люди, большинство с чисто африканскими чертами, в длинной, залитой желтым светом комнате, под звук аккордеона, пробивающийся через бой барабанов, как будто слышались струнные инструменты двухсотлетней давности и виделись танцы, которые даже и сейчас почти не уподобились негритянским; атмосфера становилась густой и отталкивающей атмосферой рабства и возвращала к тем долгим вечерам на плантации, когда музыка лилась из ярких окон усадьбы и перетекала в едко пахнущие, освещенные факелами негритянские дома, похожие на эту case. Было жарко, воздух был спертым. Танцоры начинали потеть. Пожилые дамы, спрятавшись под соломенными шляпами, смотрят вниз, словно разучивают шаги. Несмотря на свой возраст и габариты они двигаются легко, даже изящно. Музыка и повадки знати, в других местах забытые, все еще жили в этой потусторонней, обнищавшей изысканности — к такому жеманному подражательству свелись неистовство, импровизация и дивное мастерство африканского танца.
Для народа Тринидада Уилберфорс — имя из школьного учебника. На Мартинике всюду встречается имя Шолера, освободителя, действовавшего спустя десять лет после Уилберфорса. Его память увековечена в гротескном декоре здания в центре Фор-де-Франс, в названиях школ и улиц по всему острову. Не нужно спрашивать почему.
Когда я ночью прокладывал себе путь обратно в отель, какой-то негритянский парень крикнул мне презрительно: "Эй! Ты! Ты англичанин!" — Должно быть, дело было в моей трости: я хромал и опирался на трость. Но как бы там ни было, колониальное французское обезьянничество начинало меня утомлять.
Антигуа и нравоучение
Как только мы уселись в самолете Британских Вест-Индских авиалиний, сразу же отпала необходимость "быть французом", и я получил некоторое моральное удовлетворение, видя, как некоторые мартиниканские пассажиры в несколько минут из привилегированных мулатов, французов, сливок общества, café-au-lait[1], превратились в довольно-таки обыкновенных негров; слово "мулат" с его совершенно точной и гордой расовой ноткой за пределами французских островов употребляется значительно реже.
Но как бы я ни был рад покинуть Мартинику, посадка в Антигуа[2] повергла меня в невыразимую печаль. Здесь продают части крохотного острова туристам, здесь построили хороший новый аэропорт, чтобы принимать туристов, туристов тут было столько же, сколько вест-индцев на вокзалах Виктория и Ватерлоо, когда туда прибывают поезда иммигрантов, высадившихся с кораблей. Я не собирался в Антигуа — я оказался там только потому, что не было прямых рейсов на Ямайку, — и ни о чем заранее не договорился. Список отелей с ценами в американских долларах дал понять, что отель я себе позволить не могу. Я едва ли мог позволить себе пансион; четырехмильная поездка на такси в город и та встанет мне в семнадцать шиллингов. Между неграми-таксистами в униформе произошло некоторое соревнование за то, кто получит с меня эту сумму. Я выбрал одного водителя, и мы рванули оттуда под неодобрительные взгляды остальных.
"Они меня тут не любят", — сказал мне водитель такси, торопясь приступить к обычной для таксиста болтовне (ехать-то недолго). "Я, вишь, не отсюда. Я хорошо знаю этих антигуанцев, приятель. Поживешь тут с мое, тогда поймешь, что это за птицы".
Мы остановись возле розоватого деревянного дома, в окне под лестницей виднелись два негра патриархального вида. Мою сумку передали им с улицы, и я вошел в убогую комнату в стиле негритянских мелкобуржуазных интерьеров: тесно от мебели и темно. На стенах — календари и картинки на священные сюжеты. Боковая дверь выходила в сад, где под деревьями ржавели облупленные металлические столы и стулья. Во всю мощь играла громоздкая радиола: на "Радио Антигуа", насчитывающем несколько дней от роду, шла музыкальная передача. Мягкий голос ведущего наполнялся восторгом и благоговением когда приходил момент позывных радиостанции. В два часа ему пришлось закончить передачу, и я почувствовал, как ему горько.
Я вышел, чтобы осмотреть город Сент-Джонс[3]. Мертвый и пустой, он выгорал на солнце. Дома были белыми и низкими, улицы широкими, прямыми и черными. Двери и окна везде были закрыты. Йисус говорит тебе: сбавь скорость и останься жив, возвещала одна надпись. Н-вс-гда, гласила другая. Я пошел обратно в пансион. Окно, выходящее на улицу, было закрыто; нигде и следа патриархальных негров. Дверь закрыта, ключа у меня не было, на звонок никто не отозвался. Я совершил еще одну прогулку по добела раскаленной улице, вернулся и побарабанил в закрытую дверь, прогулялся еще раз к надписи н-вс-гда и обратно, и ясно сознавая, что никакой аудитории у меня нет, колотил в дверь длинными истерическими канонадами до тех пор, пока внезапно дверь не подалась, и слуга, очень спокойный, без единого слова не впустил меня внутрь. Я тихо прошел в свою маленькую комнату, где занавески, и постель, и линолеум были покрыты мелким цветочным узором.
Спать я не мог. Если четыре мили здесь стоят семнадцать шиллингов, то у меня явно не было денег на такси до заброшенного дока Нельсона (в свое время считавшегося одной из самых болезнетворных стоянок королевского флота). Багаж остался в аэропорту. У меня не было ни книг, ни бумаги, чернила из ручки вытекли во время перелета. Я принялся на цыпочках бродить по дому, ища, чем заняться. Робко покрутил радиоприемник. Из него не раздалось ни звука. В коридоре около гостиной я увидел книжный шкаф с потрепанными журналами и несколькими переплетенными книгами. Журналы были религиозного содержания и предупреждали о грядущем конце света. Все книги оказались "Ежегодниками". Открывая наугад "Ежегодник свидетелей Иеговы за 1959 год", я прочитал: "Гватемала. Пять беспорядочных месяцев самоуправления провинций, после того как застрелили Президента, но проповедь должна продолжаться". Перевернул несколько страниц и прочел: "Бекуа. Расследование показало, что честные усилия двух наших сестер были сведены на нет распущенными нравами тех, кто проповедует истину с выгодой для себя". Я взял книгу наверх к себе в комнату.
Незадолго до четырех часов мне пришло в голову, что в Антигуа может быть телефонное обслуживание. Я прокрался по пустому дому, и был счастлив, обнаружив и телефон, и миниатюрный телефонный справочник. Я начал обзванивать правительственные ведомства. Иногда я клал телефонную трубку, когда мне отвечал чей-то голос; иногда я не получал никакого ответа; иногда я просил о помощи. Наконец, к моему удивлению, я выудил положительный ответ от доброго голоса, который я слышал ранее: он принадлежал ведущему "Радио Антигуа".
Он приехал через пятнадцать минут и повез меня на радиостанцию — в двухкомнатный домик, запертый и заброшенный посреди выжженного солнцем поля. У него были ключи; мы вошли. Пока он готовился к вечерней трансляции, я исследовал пластинки и кассеты радиостанции, нашел запись одного из собственных выступлений и дважды проиграл его.
Приехала оживленная молодая женщина. Она села перед микрофоном, посмотрела на часы и сказала: "Начинаем?" Мой ведущий кивнул. Женщина покрутила несколько переключателей и заговорила. Вечерняя трансляция началась. Я вышел наружу и сел на бетонные ступеньки. Мимо проскакала галопом лошадь, на ней — босой негритенок без седла. Солнце садилось, низкие холмы теряли очертания, коричневое поле на несколько секунд озарилось золотом.
Когда я вернулся, в пансионе бурлила жизнь. Патриархальные негры были на своем месте у окна, а трио молодых веселых англичан — единственные гости, кроме меня, и, по-видимому, в прекрасных отношениях с хозяевами — наполнили хлипкий старый дом своим оживлением и смехом.
Служанка бубнила на кухне сама с собой, а когда я шел мимо, забубнила громче: "Не знаю, что она о себе думает. То ей так, то ей сяк, делай то, не делай это… Гм! Думает, я тут привязана и должна тут торчать. Гм! Ну, вас скоро ждет сюрприз, миссис!"
Когда я спустился вниз к ужину, английское трио говорило о расовой проблеме в Вест-Индии. Они громко высказывали свои либеральные взгляды; их либерализм свел сложную расовую ситуацию в Вест-Индии к простому и малозначительному, зато куда более понятному предрассудку белых.