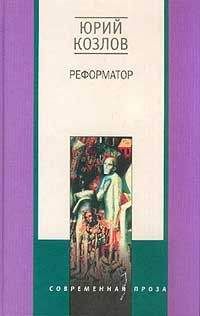Поплавок между тем вел себя странно. Не уходил вниз, не ложился на бок, а широко, как маятник, раскачивался из стороны в сторону с одновременным (малым) подъемом (вытолком) из воды.
Видимо, проникшись ответственностью момента, разом перестали звонить мобильники. Над прудом восстановилась естественная, точнее неестественная, столь милая сердцу (уху) президента, тишина.
Поплавок прекратил всяческое движение, каменно и тревожно застыл на воде, как восклицательный знак, как балерина на пуантах перед тем как отчаянно куда-то устремиться.
Никита подумал, что вот так, наверное, и с будущим. Оно в том, что на крючке, а не в движениях (неподвижности) поплавка. Какой с поплавка спрос? Никакие (Никита) предсказатели смотрят сквозь воздух на поплавок. Истинные (Савва) — сквозь воду на крючок, точнее на рыбу, собирающуюся заглотить наживку.
Если, конечно, это рыба.
«Я объясню тебе принцип действия машины предсказаний. Точнее, один из принципов, потому что их одновременно много и нет вообще, — с мрачной решимостью произнес Савва, глядя широко раскрытыми, ничего не выражающими глазами на притихшую гладь пруда, как на судьбу, которая, как известно, может принимать любую форму: воды, стрекозы, карпа и даже… не принимать вообще никакой формы. — Я называю его универсальным принципом возмещения божественной сущности. Если человеку доподлинно известны год, день и час его собственной смерти, то жизнь, в принципе, теряет для него смысл. То есть точное предсказание, благое как бы дело, превращается в собственную противоположность, ибо три цифры — год, день и час — перечеркивают, обессмысливают жизнь человека, потому что из нее уходит самая сокровенная тайна: что умереть может любой, только не я; что со мной этого не может случиться никогда; что все другие — знакомые и не знакомые, которых показывают по телевизору — да, могут, а я — нет. Они — правило. Я — исключение. Поэтому предсказание даты смерти не имеет никакого смысла. Но иногда дату — год, день, час и даже минуту — можно не то чтобы предсказать, а… назначить».
«Себе?» — уточнил Никита.
«Себе, — подтвердил Савва, — мы сейчас не говорим о запланированных убийствах. Тогда жизнь, точнее ее остаток приобретает огромный, исполненный отчаянья, силы и воли смысл, потому что ты уходишь из жизни самстоятельно, то есть именно в тот год, день и час, который сам себе назначил. Тогда твое предсказание поднимается на качественно иной уровень, и жизнь вокруг склоняется, подчиняется, исполняет твое предсказание. Грубо говоря, чтобы заставить предсказание работать, то есть превратить его во благо, надо всего-ничего: оплатить его… собственной жизнью».
«Смертью», — поправил Никита.
«Это две стороны одной монеты, две гравюры одной купюры», — махнул рукой Савва.
«Здорово, — поплавок Никиты вертелся на легком ветру, как соскочившая с пуантов балерина. Что было странно, потому что поплавок Саввы стоял неколебимо. Как будто по глади пруда скользили два ветра. — Хотя, конечно, о цене можно поспорить».
«Нельзя, — просто ответил Савва. — Озвученное, произнесенное предсказание питается жизнью предсказателя. Оно отнимает у него энергию и силы, как сбываясь, так и не сбываясь. Вот почему предсказатели долго не живут. Их век размазывается по бесчисленным вариантам будущего, как… мед или яд по блюдцам, причем блюдец всегда много больше, чем… меда или яда. А если и живут, встречаются такие, то исключительно… немотствуя, то есть не делая свои предсказания ничьим достоянием, топя, давя, растворяя их в себе. Лишь в этом случае предсказания сообщают предсказателю свою заархивированную энергию, наполняют его силой, закаляют волю, продлевают его жизнь практически до бесконечности. Почему бессмертны боги? Потому что все знают и молчат. Стоит только заговорить и… Помнишь, что произошло с Иисусом Христом? Почему бессмертна душа? Она тоже все знает и молчит».
«То есть выбирать можно только между смертью и молчанием?» — спросил Никита.
«Или сгореть, как мотыльку на свече, — подтвердил Савва, — или просидеть весь век, как… медведка в сырой тьме».
Никита много (особенно в детстве) слышал про загадочных медведок, но никогда их не видел. По рассказам они не просто сидели в сырой тьме, а еще и (когда кто-то на них покушался) оскверняли воздух вонючей черной аэрозолью, какой следовало остерегаться. Никита подумал, что должно быть эта аэрозоль производилась из переработанных (компост) знаний о будущем, пропавших втуне, но не озвученных всуе.
…Все эти (ни о чем) мысли посетили Никиту Ивановича на автовокзале «Na Florency».
Из всех способов перемещения в пространстве он (да и не только он) предпочитал автобусы, как наиболее демократичный и наименее подверженный контролю. Причем (когда-то его научил Савва) билет следовало брать загодя, садиться же не на станции отправления, а на первой, второй, а еще лучше третьей остановке. Единственным неудобством было то, что приходилось с боем освобождать собственное место. Зачастую для занявшего не свое место человека расстаться с ним было все равно что расстаться с жизнью. Но, как правило, рано или поздно эта проблема решалась.
Вообще-то, народ уже не сильно боялся паспортного, таможенного, пограничного, экологического, медицинского и т. д. контроля, поскольку в нем отсутствовало то, что наполняло процедуру античным (божественным) ужасом, а именно, неизбежность и неотвратимость. Данный ужас базировался на том, что структуры, осуществлявшие контроль, были изначально сильнее не столько отдельного человека, который (в момент проверки) фактически не существовал (а если и существовал, то только для того, чтобы быть наказанным), а всего проверяемого (и не проверяемого) в данный момент человеческого сообщества.
Никита Иванович до сих пор помнил, как (во времена СССР) волновался отец, готовясь к поездке на социологический симпозиум в Париж. До отправления поезда оставалось два часа, а у него не было на руках паспорта. Паспорт привезли в Академию наук за тридцать семь минут до отправления. Толком не попрощавшись, отец схватил трясущейся рукой чемодан, поймал такси и каким-то чудом успел на поезд. Наверное потом к нему вернулось чувство собственного достоинства, но в день отъезда не было человека бессильнее и ничтожнее его.
Сейчас контролируемые относились к контролю, как к стихийному бедствию, которое могло настигнуть, а могло и нет. В принципе контроль нынче не сильно отличался от заурядного грабежа, поэтому проверяемые, как правило, путешествовали вооруженными, что отчасти, хотя и далеко не всегда, дисциплинировало проверяющих. Идея контроля, таким образом, изменила сущность. На место неотвратимой предсказуемости заступила непредсказуемая отвратимость.
Идея контроля жила (доживала) памятью о былых строгостях, когда Европа была переполнена нелегальным людом, и люд этот изрядно страдал от разного рода проверок, облав, ограничений и т. д. Страх несчастных, давно пребывающих (отчасти и по результатам проверок) в иных мирах, остаточно присутствовал в уже не столь несчастных и пока еще пребывающих в этом мире гражданах, подтверждая тем самым эзотерические учения о ноосфере, эгрегоре, коллективном разуме, общем страхе и т. д.
Людей в Европе после трех подряд эпидемий — бубонной чумы, черной оспы и неведомой (говорили, что это новейшая разновидность проказы) «бронзовой» лихорадки, когда захворавший постепенно превращался в… подобие кувшина, так причудливо изгибались его кости (первым изменялось лицо, поэтому болезных вослед великому Гоголю называли «кувшинными рылами») — было ровно столько, сколько нужно, чтобы не возникало лишних проблем. А если они возникали, то решать их было легко и приятно, как, к примеру, сейчас решалась проблема с бомжами, а чуть раньше с «кувшинными рылами», которые появлялись ниоткуда (вирус лихорадки так и не был идентифицирован) и уходили в никуда.
А иногда — не в никуда.
Никита Иванович вспомнил, как обливался слезами весь мир над погибающей от «бронзовой» лихорадки бездомной девочкой, кажется, полинезийкой, которую взяли в семью богатые чехи, поменявшие (чтобы девочке было легче к ним привыкнуть) свои имена на полинезийские. Телевидение вело непрерывный репортаж о героических попытках спасти девочку, хотя все понимали, что спасти ее невозможно. Люди рыдали у больших уличных экранов, а потом расходились по домам, проламывая по пути специальными железными палками головы другим больным «бронзовой» лихорадкой.
Ученые доказали, что неидентифицированные бактерии, вызывающие данное заболевание, погибают одновременно с их носителем, то есть стоит только проломить больному голову железной палкой (сделать это было по силам и ребенку, потому что кости черепа предельно истончались), как источник заразы становился практически безопасным для окружающих.