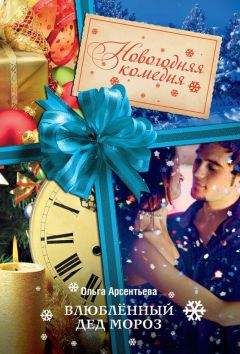По прошествии нескольких лет Ханс Карло все-таки решился выдворить из дома этих ужасных, постоянно шушукающихся тетушек. Он решил взять воспитание сына в свои руки, и какое-то время все шло очень даже неплохо. Однажды весенним вечером, незадолго до конца войны, Элизабет встала с постели, удивив тем самым сидящего в гостиной с газетой в руках Ханса Карло.
— Черт возьми, — воскликнула она, — я пролежала в постели шесть лет.
Она попросила его распахнуть окна и отыскать альбом с фотографиями их давних путешествий на мотоцикле, что дедушка и сделал с удовольствием, сияя, словно маленький мальчик в день своего рождения.
— Чем, интересно, он сейчас занимается, этот норвежец? — спросила Элизабет, когда взгляд ее упал на норвежца, сидящего рядом с жирным немцем в прокуренной берлинской пивной. Ханс Карло ответил, что вряд ли он разгуливает по Потсдамской площади с разрисованным нацистским флагом. Когда они повспоминали прошлое, дедушка отправился на улицу в уборную, чтобы помочиться перед сном. Он подумал о том, что давно пора починить крышу в сарае. «Жизнь прекрасна!» — воскликнул он ни с того ни с сего и пошел в дом, где бережно раздел жену, чтобы предаться бурной любви, которая была почти так же восхитительна, как и в их веселые берлинские дни.
Но вскоре злые языки вновь начали возмущаться Хансом Карло: «Опять беременна! О чем он думает, этот разбойник! Он что, хочет в гроб загнать свою несчастную жену?» — поговаривали на семейных обедах, и тихие, шушукающиеся тетушки снова начали проникать в дом. Они просачивались в окна, когда Ханс Карло был на работе, они взламывали замки, они пугали малыша Гарри своими стишками, и, наконец, они снова подчинили себе весь дом. То, что беременность у Элизабет проходила тяжело, не способствовало уменьшению количества родственников в доме, и после рождения малышки Лайлы при помощи кесарева сечения она была так измучена, что тихие, шушукающиеся тетушки тут же устроили новорожденную в удаленной комнате на чердаке — той же, в которую в свое время сослали Гарри. Но если маленький Гарри все время спал, то малышка Лайла, напротив, орала как резаная, замолкая лишь на то короткое время, когда ей позволяли лежать у груди бледного ангела — ее мамы. «Ребенок одержим дьяволом», — шептали одни тетушки и советовались с другими, которые в свою очередь позаботились о том, чтобы маленькая девочка получила в наследство свою часть семейной мифологии: водяные, черные дыры — весь тот арсенал, который необходим для исправления строптивого ребенка, и они пели страшные колыбельные и повторяли ужасные поговорки: если будешь кричать, отсохнет язык, если будешь спорить и не будешь хорошей девочкой, то тебя не будет любить мама, если не перестанешь шипеть на своих тетушек, будешь несчастна в любви, а если будешь врать, то у тебя почернеет живот, а бывает, что и зубы выпадают, и на теле появляются язвы. Когда трехлетняя Лайла спросила, почему ее мать всегда лежит в комнате с задернутыми занавесками, ей ответили, что — что бы там ни было — маленькой девочке не положено задавать слишком много вопросов, вот вырастет — тогда и получит ответы на все свои вопросы.
Ханс Карло не принимал особого участия в жизни своих детей, и прошло еще несколько лет, прежде чем ему, применив грубую силу, удалось очистить дом от обременительного присутствия родственников. Окна снова распахнули, но, к сожалению, помочь ничем уже было нельзя: однажды весенней ночью на подушке Элизабет расцвела маленькая колония красных цветов. Она спрятала их на дне корзины с грязным бельем, но вскоре всем стало ясно, что дело не просто в весенней простуде, нет, на самом деле это смерть поселилась в дыхании ангела, и сколько бы ни открывали окна, это не могло прогнать запах стоячей цветочной воды или помешать красным цветам каждую ночь появляться на подушке. «Черт возьми! — прошептала хрупкая Элизабет, услышав смертный приговор врача. — Я пролежала в этой кровати всю жизнь!» Потом она в последний раз попросила Ханса Карло принести из подвала альбом с фотографиями, и весь вечер и полночи они листали свои воспоминания, и когда фотографии кончились, она, казалось, совсем упала духом. На следующий день окна остались закрытыми, и так длилось еще пять лет.
Хотя многочисленные родственники уже куда-то испарились, казалось, их дух все еще витает над домом. Ханс Карло, пытаясь воспитывать детей, брал время от времени на вооружение мифологических существ. Он рассказывал детям о водяных в речке, о Господе Боге, который во тьме ночной забрал к себе котят Лайлы. Когда их семейный врач три года спустя сказал: «Осталось не больше месяца», — это прозвучало для него почти как облегчение; девятилетнюю Лайлу отправили погостить к тетушке — никто не мог знать, что проживет она у нее два долгих года, именно столько времени длилась агония Элизабет. Все это время Лайла навещала мать лишь по воскресеньям, и видела она всегда одно и то же: больного ангела, мать, которая парит между небом и землей. Элизабет гладила ее по щеке, а позднее, когда лежала в больнице, лишь поглаживала руку дочери и, чаще всего, из-за сильных приступов кашля, сотрясающих ее тело, ничего не успевала сказать. Озабоченные медсестры хватали маленькую Лайлу и выводили в коридор, чтобы она не видела, как мать кашляет красными цветами, и чтобы созерцание красной жидкости, пузырящейся на ее губах и стекающей по подбородку, не испугало бедного ребенка.
«Господь Бог всегда призывает к себе лучших», — говорила тетушка, когда Лайла возвращалась к ней после воскресных посещений, и та отвечала: «Бог идиот», — после чего бежала в свою комнату, а за ней по пятам бежала тетушка, нашептывая: «Как можно такое говорить! Ты в своем ли уме, девочка! У тебя засохнет и отвалится язык!» Лайла, захлопнув дверь перед носом тетки, кричала: «Глупая корова!» — и продолжала целенаправленно доводить тетушку до седых волос, и в конце концов та почувствовала некоторое облегчение, когда однажды печальным летним днем отец забрал одиннадцатилетнюю девочку. В тот день умерла Элизабет. Но если ее продолжительная болезнь и царившая в доме атмосфера сделали старшего брата Лайлы нервным молодым человеком, то сама Лайла, напротив, стала злой, как черт. Съев самое отвратительное в своей жизни мороженое — у лесного озера, там, где за двадцать лет до этого молодая Элизабет позволила Хансу Карло попросить ее руки, Лайла ни разу не позволила себе заплакать на виду у родственников.
— Эта вот, — говорила она о новой экономке отца, — пусть только посмеет прикоснуться к маминым платьям и пусть только посмеет тронуть мои вещи!
Экономку звали Лилиан. Она была на двадцать лет моложе Ханса Карло, приняли ее на работу сразу после смерти Элизабет. За последний год багетная мастерская против всех ожиданий превратилась в довольно доходное предприятие, а Гарри только что был призван в армию. Лилиан с ужасом смотрела на строптивую дочь своего нового работодателя, сначала она возмущалась тем, что отец не делает дочери замечаний, но затем вознамерилась хитростью завоевать сердце девочки. «Какая ты милая девочка», — шептала она заискивающе. На что Лайла отвечала: «Никакая я не милая, и не думай, что сможешь заполучить отца!»
Этот обмен репликами, однако, встряхнул Ханса Карло, возможно потому, что в ответе Лайлы была какая-то доля истины, и он отреагировал на него звонкой пощечиной, от которой Лайла коротко, почти беззвучно вскрикнула. Затем она повернулась и побежала в подвал, который незадолго до смерти Элизабет залило водой и он превратился в подводную пещеру, где лягушки, жабы и маленькие водяные паучки плавали вместе с фотоальбомами и другими реликвиями прошлого. Теперь вода ушла, и Лайла, слышавшая о потопе, сначала принялась искать черную дыру, о которой, когда она была совсем маленькой, ей нашептывали тетушки и из которой, по ее представлениям, и пришла вода. Но она нашла лишь грязную крышку водостока, после чего попробовала оценить объем разрушений, в результате которых возник этот ужасный беспорядок. В тот же вечер она попросила у отца разрешения привести подвал в порядок, и Ханс Карло согласился, порадовавшись тому, что самому ему не придется копаться в болезненных воспоминаниях.
Одиннадцатилетняя Лайла, ведрами выгребая грязь из подвала, нашла несколько размытых водой фотографий, на которых невозможно было никого узнать. Она обнаружила письма, в которых четкий почерк превратился в таинственные иероглифы, и нашла множество других вещей, среди прочего разрисованный нацистский флаг, который так заплесневел, что сначала она хотела его выбросить. Но, убежденная в том, что в каждом обломке прошлого содержится часть души матери, она отмыла каждую фотографию, прогладила утюгом и поместила в альбомы, которые экономка, пытаясь снискать расположение хозяйской дочери, купила на хозяйственные деньги без ведома Ханса Карло. Вскоре усилия Лайлы принесли плоды, и ей удалось разглядеть мать среди ангелов на фотографиях, которые, как казалось дочери, иллюстрируют небесную жизнь матери по другую сторону смерти. Сначала она удивлялась тому веселью, которое, казалось, царит на небесах. Она видела, как ее мать пьет на брудершафт с какими-то жирными ангелами, как она с развевающимися волосами мчится на мотоцикле по райскому саду, и вскоре увидела ее в каких-то более или менее непристойных сценах, отдающейся ангелам с розовыми губами и позволяющей волосатым сатирам целовать белую шею и лапать бедра, а губы ее при этом складывались в слова, которые могли бы звучать «жизнь прекрасна» и «небеса прекрасны».