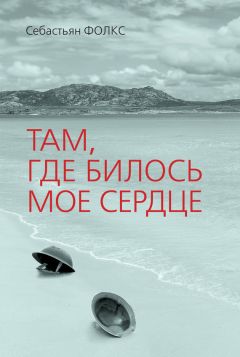Но я не всегда пребывал в таком мрачном настроении.
В субботу, например, я отправился на блошиный рынок, что у северных городских ворот. Уже заметно похолодало, и я надел под куртку оба свитера. Рынок расположился в помещении бывшего склада, а часть прилавков выплеснулась на улицу вдоль канала. В помещении торговали стеклянными абажурами, сломанными пылесосами, складными столиками с пятнами от воды и метинами от непогашенных сигарет. Наверное, слоняться по рынку в компании с кем-нибудь было бы гораздо веселее.
Я подошел к низенькой ограде канала, сел и закурил. Стал наблюдать за лотком, заставленным дешевой керамикой. Продавцы пытались что-то всучить человеку в дорогом пальто. Лоточник с испитым, осунувшимся и свирепым лицом, иссеченным морщинами, смотрел угрюмо, а его жена, пожалуй, слишком упитанная для несчастной нищенки, назойливо уговаривала «господина», старательно прикрывая шарфом круглые румяные щеки.
Чуть подальше от столика с керамикой кто-то поставил на патефон пластинку с новоорлеанским джазом, и холодный воздух наполнился утробными медными звуками.
Едва лишь вкрадчиво заурчал кларнет, у меня дрогнуло сердце, и снова обожгла мысль, что хорошо мне уже не будет никогда.
Всю жизнь мне казалось, что если я преодолею вот это или вот то, то сумею предугадать, что готовит мне судьба. Видимо, в подсознании теплилась надежда на доброе и справедливое провидение, которое непременно должно меня хранить. Мама мне это внушила или проповедник в воскресной школе, не знаю.
В городах, где мне довелось побывать, будь то Тунис, Коломбо или Иерусалим, а позже Венеция, Брюгге, Вена, да и все остальные, никакие «прозрения» по поводу собственного будущего меня не посетили. Я буравил взглядом городские стены, пытаясь угадать, что за ними скрывается. Запрокинув голову, смотрел на окна мансард, высившихся над магазинами первых этажей, поскольку с младых ногтей усвоил, что увидеть что-нибудь можно только в вышине. Я пытался проникнуть взором сквозь запотевшие окна баров, сквозь латунные решетки ресторанных окон, полуприкрытых шторами. Однако я видел лишь мир других, в котором мне самому места не находилось. Я бродил и бродил по тротуарам, напуганный и восхищенный изобилием и разнообразием происходящего, но не смел ни на чем остановиться, одновременно боясь упустить что-то действительно важное для себя.
Одинокое детство, отрочество в обнимку с Библией и учебником латинской грамматики — вот этапы моего развития, мои шажки вперед. На мое взросление пришлась война, но и там я внушал себе, что… Что внушал? Что надо подождать. Вот вернусь домой после Дюнкерка… Вот вернусь на фронт… Вот вернусь из Северной Африки, вот вылечусь после ранения… Эти «вот» множились и множились. Но я продолжал верить, что, если не буду унывать и перетерплю, все прояснится и будущее обязательно проступит во мраке неведения.
После войны я мечтал забыться, окунувшись в работу. Мечтал последовать совету старого Полония из «Гамлета»: «Путем крюков и косвенных приемов, обходами находим нужный ход»[32]. А потом годы и годы я провел в узком пространстве, очерченном рамками исследований, в заточении для людских душ. Возможно, мне помогала двигаться вперед все та же иррациональная приверженность идее добра. Я трудился во благо страждущих, которых почти никто даже не понимал. Возможно, в душе я надеялся, что Господь видит, как я усердствую. И даже втайне рассчитывал на то, что вот завершится этап напряженной работы, и тогда… Вечное мое «вот».
Забыться в работе удалось, а заодно я совершенно забыл о самом себе. Бесконечные консультации, буйные больные, тюки грязных простыней. И только сейчас, услышав старую пластинку, я впервые осознал: вся эта череда новых шагов и этапов не способна ничего прояснить наперед.
Очередное «и вот» обернулось лишь тем, что я очутился в очередном зарубежном городе, где мне априори было гарантировано одиночество.
К творческому процессу я приступил в понедельник. Название для будущей книги придумал такое: «Немногие избранные». Купил в магазине канцтоваров пачку бумаги, заправил лист в каретку машинки. Потом два дня бродил туда-сюда по натертым половицам, что-то писал карандашом в блокноте и наконец решился напечатать первое слово. Это было слово «итак».
Не ожидал я, что писать книгу так тяжело даже физически. Статьи и студенческие курсовые не шли с ней ни в какое сравнение. Судя по томам, что стояли у меня на полке, мне предстояло натюкать от семидесяти пяти до восьмидесяти тысяч слов. Выдержат ли мои пальцы такую нагрузку — почти миллион ударов по клавишам машинки? А поясница? Ведь придется неделями торчать за письменным столом…
Я установил максимальный междустрочный интервал, чтобы удобней было вносить потом правку. Вычислил: если печатать по три страницы в день, то на книгу уйдет девяносто дней, то есть комнату надо снять как минимум на три месяца. За работу я садился утром, в середине дня выходил пройтись и перекусить, примерно в пять — снова за машинку и трудился до ужина. Вечером читал. Очень медленно, но дело все-таки продвигалось: пачка чистых листков становилась все тоньше, соответственно, количество заполненных текстом росло. Чем-то это все напоминало строительство стены: клади кирпичик за кирпичиком.
Невозможно было втиснуть в книгу все случаи из моей врачебной практики, хотя каждый из них повлиял и на мое восприятие жизни, и на мое отношение к Луизе.
Когда я работал в клинике под Бирмингемом, как раз начался бум наркомании. В награду за долгие зимы в окружении неизлечимых сумасшедших мне разрешили в течение полугода ездить в Эдинбургский исследовательский институт. Там, несмотря на весьма скудные возможности, пытались выяснить, что происходит в мозгу героинового наркомана. Предполагалось, что под воздействием героина почти полностью блокируется префронтальная кора (участки мозга, ответственные за принятие решений и адекватное поведение). Но! Одновременно происходит колоссальный выброс дофамина — вещества, дающего ощущение удовольствия. У человека возникает неодолимая потребность испытывать блаженство снова и снова.
Ничего сенсационного в исследовании не было, но мне тогда вспомнилось и кое-что еще. Физиология секса. В самом деле, подумал я, чувство влюбленности и физического влечения тоже порождает сладкую зависимость. Я был потрясен сходством своей модели отношения к Луизе с моделью переживаний, испытываемых пациентами, страдающими мономанией. Позже этот термин был заменен на другой — обсессивно-компульсивное расстройство. Я предложил шотландским коллегам провести замеры серотонина у двух групп добровольцев: влюбленных и наркоманов. Но, к сожалению, на подобные эксперименты не нашлось ни времени, ни денег.
Безусловно, состояние любовной привязанности провоцирует изменения в мозгу. Они так же реальны, как «голоса» Диего, которому было не важно, что на самом деле их нет. Наука о мозге не особо рьяно занимается метафизическими проявлениями болезни и не очень-то рассчитывает на появление более совершенных сканнеров и прочих сверхчувствительных приборов, которые помогут разгадать тайны невидимых процессов и взаимодействий. Так что мне оставалось только размышлять о странностях феномена, который мы, люди, называем словом «любовь».
Это единственное чувство, ради которого мы готовы изменить свою жизнь. Никакому другому (если иметь в виду непредсказуемое воздействие химических реакций в мозгу) мы не позволяем лишить нас способности трезво оценивать ситуацию. Ни один психически здоровый индивид не решится кардинально изменить свою жизнь на почве зависти, ярости или отчаянья. Но мы готовы ринуться в любую авантюру, если нами движет «любовь».
Более того, иррациональные порывы влюбленных восхищают общество, которое им рукоплещет. Влюбленным предоставляют льготы, поскольку их помолвки, свадьбы, трудовые подвиги и смертная мука обусловлены мощным выбросом дофамина в организме. Все это очень странно, думал я. Возможно, мне просто хотелось верить, что мое исступленное обожание Луизы — лишь побочный эффект некорректного воздействия нейромедиаторов.
Подобные размышления в структуру книги совершенно не вписывались, и незадолго до отъезда я написал на эту тему статью и отдал ее в журнал, где меня уже печатали. К моему изумлению, опубликовали ее без единой купюры под крупным заголовком: «Любовь лишь людская выдумка». Эта фраза стала очень популярной. Какое-то время мне названивали сотрудники редакций и радиостанций, уверенные, что имеют дело с махровым рационалистом, который сводит все эмоциональное богатство человеческой жизни к синаптическим контактам. Пришлось терпеливо объяснять, что не на того напали и что я смотрю на мир более широко.
На ланч я обычно ходил в небольшой ресторанчик «Феликс», расположенный на площади в пятнадцати минутах ходьбы от моего жилища. Туда можно было забрести в любое время, заказать малосольную лососину с укропом или колбаски со специями. Пил я местное пиво, темное и довольно слабое.