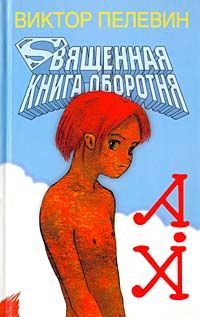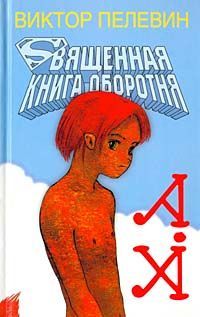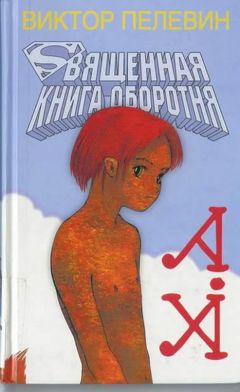– Ничего. Хорошая оперативная работа. Я хотел сказать, операторская. И режиссер тоже не дурак.
– Нет, я не про фильм.
– А про что тогда? – спросил он и поднял бровь.
Я поняла, что он в хорошем настроении.
– Про это, Саша, про это.
– Если про это, то очень песня понравилась. Давай еще разик поставим?
– Какая именно песня?
– Пацан Лос Диас.
Я наморщила лоб.
– Чего?
– Ну там слова такие, – сказал он чуть смущенно. – Там, конечно, что-то другое, просто звучит похоже.
– Пацан? Где там? А, поняла. «Y asi pasan los dias y yo desesperando…» Это по-испански: «И так проходят дни, и я в отчаянии…»
– Да?
– А ты, наверно, думал, «мальчик хочет в Тамбов», часть вторая? Типа не попал пацан в Тамбов, пока был молодой, состарился и поет теперь о своей грусти.
– Все б тебе издеваться, – сказал он миролюбиво. – Так поставим? Или, может, лучше все кино по новой?
На следующий день мы посмотрели фильм еще раз, потом еще и еще. И каждый раз этот вихрь так же сладостно опустошал душу, как в самом начале. Мы долго отдыхали, лежа рядом. Мы не говорили – говорить было не о чем, да и не оставалось сил.
Мне нравилось класть на него ступни, когда он сворачивался в черный бублик, – для вида он иногда рычал, но я знала, что ему это так же приятно, как и мне. С какой нежностью я вспоминаю сейчас эти дни! Прекрасно, когда два существа находят способ принести друг другу счастье и радость. И каким ханжой надо быть, чтобы осуждать их за то, что они чем-то не похожи на других!
Сколько их было, этих блаженных мгновений отдыха, когда мы лежали на циновке, не в силах пошевелиться? Думаю, в сумме они дают вечность. Каждый раз время исчезало, и приходилось дожидаться, пока оно раскрутится до своей обычной скорости. До чего мудро устроена жизнь, думала я с ленивым удовлетворением, слушая, как поет нашу любимую песню Nat King Cole. Был такой большой, серый, грубый. Собирался солнце сожрать. И сожрал бы, наверное. А теперь лежит у моих ног мирная черная собачка, спокойная и тихая, и просит над ней не подтрунивать. Вот оно, облагораживающее влияние хранительницы очага. Отсюда и пошли цивилизация и культура. А ведь я даже не предполагала, что могу оказаться в этой роли.
Ах, милый Саша, думала я, ты никогда про это не говоришь. А я не решаюсь спросить… Но ты ведь не жалеешь о своей прошлой жизни – одинокой, неустроенной и волчьей? Ведь со мной тебе лучше, чем одному – правда, милый?
А?
…Y tu, tu contestando:
Quizas, quizas, quizas…[31]
*
Я часто задумывалась, что это за собака, которая отстоит от волка так же далеко, как волк от лисы. Мифологических параллелей было множество, но сама я никогда не встречала такой странной разновидности оборотня. Этот иссиня-черный пес казался безобидным существом, но я нутром чуяла грозную тайну, которая в нем крылась. Все выяснилось случайно.
День начался с легкой ссоры. Мы выбрались в лес погулять, уселись на поваленное дерево, и я решила развлечь его, исполнив старинную китайскую песню на стихи Ли Бо «Луна над горной заставой». Я спела ее очень даже неплохо, только, пожалуй, слишком высоким голосом – в древнем Китае это особенно ценилось. Но мое мастерство расшиблось о кросс-культурный барьер – когда я кончила петь, он покачал головой и пробормотал:
– И как я, русский офицер, дошел до такой жизни?
Я так обиделась, что даже покраснела.
– Да ладно тебе, какой ты русский офицер? Так, бригадир мокрушников.
– Мы невиновных не убиваем, – сказал он сухо.
– А пушкиниста Говнищера кто на смерть послал? Думаешь, не знает никто?
– Какого пушкиниста Говнищера?
– Или как его звали… Ну этого, который еще за сигарету минет делал…
– Слушай, у тебя, по-моему, что-то с психикой. То у тебя рыбья голова медведем работает, то какой-то Говнищер гибнет, а я во всем виноват.
– Я просто хотела сказать, что рыльце у тебя в пушку, и я в курсе. Только я тебя и с этим пушком люблю.
– Вот оттого у меня все проблемы, – сказал он тихо, – что ты меня любишь.
Я не поверила своим ушам.
– Что? Ну-ка повтори!
– Шучу, шучу, – торопливо сказал он. – Ты все время шутишь, ну и я пошутил.
Самое ужасное, что его слова были чистой правдой. И мы оба это понимали. Установилось тяжелое молчание.
– А Говнищера мы не на смерть посылали, а на подвиг, – сказал он через минуту. – И память его марать не надо.
Правильно, надо было сменить тему.
– То есть что, он знал? – спросила я.
– Какой-то частью сознания наверняка.
– Значит, упрекнуть себя не в чем?
Александр пожал плечами.
– Во-первых, – сказал он, – у нас заявление есть, которое он в сумасшедшем доме написал: «Хочу увидеть Лондон и умереть», дата и подпись. А во-вторых, нас по гуманитарным аспектам эксперт консультировал. Сказал, что все нормально.
– Это Павел Иванович? – догадалась я.
Александр кивнул.
– А как он вообще стал на вас работать? Я имею в виду, Павел Иванович?
– Ему показалось важным, чтобы мы узнали о его покаянии. Странно, конечно, но зачем отталкивать человека. Особенно если искренне покаялся. Нам ведь всегда нужна информация – ну там по культуре, чтоб знать, кто с нами, а кто нет. Консультации опять же. Так и прижился… Ладно, замнем. Бог с ним, с этим Говнищером. Если, конечно, не врут имамы.
После этого мы не обменялись ни единым словом до самого вечера – я дулась на него, а он на меня: сказано с обеих сторон было достаточно. Вечером, когда молчание надоело, он начал спрашивать у меня подсказки для кроссворда.
Он в тот вечер был в человеческом теле, и от этого в комнате делалось особенно уютно. Я лежала на циновке под лампой и читала очередную книгу Стивена Хаукинга – «Теория Всего» (не больше и не меньше). Вопросы Александра отвлекали меня от чтения, но я терпеливо отвечала на них. Некоторые веселили меня даже больше, чем книга.
– А как правильно пишется – «ги-е-некологическая» или «гинекологическая»?
– Гинекологическая.
– Тьфу ты. Тогда все сходится. А я думал, там «е» после «и».
– Это потому, что ты подсознательно считаешь женщин гиенами.
– Неправда, – сказал он и вдруг засмеялся. – Надо же…
– Что там еще?
– Гинекологическая стоматология.
– Что – «гинекологическая стоматология»?
– Два слова в кроссворде стоят в линию. «Гинекологический» и «стоматология». Если вместе прочитать, смешно.
– Это тебе от необразованности смешно, – сказала я. – А такая культурологическая концепция существует на самом деле. Есть американская писательница Камилл Палья. У нее… То есть не у нее. Скажем так, она оперирует понятием «vagina dentata». Зубастая вагина – это символ бесформенного всепожирающего хаоса, противостоящего аполлоническому мужскому началу, для которого характерно стремление к четкой оформленности.
– Я знаю, – сказал он.
– Откуда?
– Читал. Причем много раз.
– У Камилл Палья? – спросила я с недоверием.
– Да нет.
– А где?
– В Академии ФСБ.
– Контрпромывание мозгов?
– Нет.
– Где же именно? – не отставала я.
– В стенгазете, – сказал он неохотно. – Там был раздел «улыбки разных широт». А в нем такая шутка: «Что страшней атомной войны? Пизда с зубами».
Чего-то подобного я и ожидала.
– А почему много раз?
– А ее три года не меняли, стенгазету.
– Да, – сказала я. – Ясная картина.
Видимо, моя интонация его задела.
– Что ты меня все время необразованностью попрекаешь, – сказал он раздраженно. – Ты, конечно, про все эти дискурсы больше знаешь. Только я ведь тоже не дурак. Просто мои знания относятся к другой области, практической. И поэтому, кстати, они гораздо ценнее твоих.
– Как посмотреть.
– А как ни смотри. Допустим, я бы эту Камилл Палья наизусть выучил. И что бы я потом с ней делал?
– Это зависит от твоих наклонностей, воображения.
– Ты можешь мне привести хоть один пример того, как чтение Камилл Палья помогло кому-нибудь в реальной жизни?
Я задумалась.
– Могу.
– Ну?
– У меня был один клиент-спирит. Он эту Камилл Палья читал во время спиритических сеансов духу поэта Игоря Северянина. А Игорь Северянин ему отвечал через блюдце, что ему очень нравится, и он сам о чем-то подобном всегда догадывался, только не мог сформулировать. Даже стихи надиктовывал. «Наша встреча, vagina dentata, лишь однажды, в цвету. До и после нее жизнь солдата одиноко веду…»
– Ну вот, – сказал он, – а я эту жизнь одинокого солдата нормально вел и без твоей гинекологической стоматологии. И помог родине.
– А она тебе отплатила. Как обычно.
– За это не мне должно быть стыдно.
– За это никому не будет стыдно. Ты что, не понял еще, где живешь?
– Не понял, – сказал он. – И не буду понимать. Тот мир, где я живу, я создаю сам. Тем, что я в нем делаю.