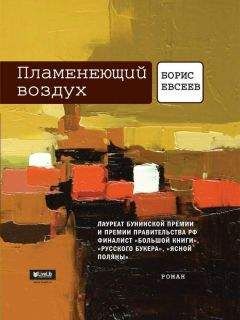Ознакомительная версия.
Все сильней негодуя, Трифон задирал голову вверх, хватался за обмякшую бороду, костерил безбожно отравителей Декарта, а заодно уж корил возникшую после смерти беспокойного француза — как возникает после сильного пожара стойкое зарево в полнеба — философию картезианства, основной мысли отравленного философа так и не уловившую…
Мысли о никчемности занятий наукой и напрасности собственного существования не покидали Трифона. Не дающийся научно-популярный очерк мысли эти распалял. Трифон в бессилии закрыл глаза, затем лег на пол.
Тут в уме и всплыли первые фразы очерка!
«Дух веет, где хочет. Эфир неслыханной свободой подобен Духу. Стало быть, эфирный ветер — дуновение Божье и есть!»
Следом всплыли и другие фразы:
«Эфир — не препятствие в познании Бога. А лучшее подтверждение Его существования».
Волнуясь, Трифон последовал за мыслью, не убиваемой клавишами, дальше:
«Бог есть все сущее. А эфир есть творец реальных форм!
И создает он эти формы при помощи реальных дуновений! Эфир и эфирный ветер есть дух мира. Дух мира и любые его дуновения — причина всех физических тел и существ: неба, звезд, человека, зверей и птиц».
Трифон хотел подняться и без отлагательств записать начало, но передумал, лишь крепче сожмурил глаза.
Лежа, сформулировал он и основную задачу очерка:
«Сообщить миру! Наступает эра тонко-телесного человека! Время обновленных — но не разрушенных — религий! Время неслыханной эфирной жизни! Такая жизнь будет заключена в новую громадную эфиросферу».
Вслед за определением основной задачи он сам себе стал диктовать куски будущего очерка:
«Не мальчик Эрот, а младенец Эфир — летит к нам на легчайших крылышках! Подлетая, становится он мощней, круче. Вот уже и всеобъемлющим ветром-смыслом, ветром-человеком и ветром-человечеством стал!
И это только один из возможных ликов Эфира.
А чаще всего эфир открывается нам (даю строго научные определения) как:
а) эфир карающий;
б) эфир милующий;
в) эфир… эфир…»
Здесь Трифон сбился. Сладко потянувшись, он зевнул: раз, другой, третий… А потом, как наглотавшийся горного воздуху на высоте пяти-шести километров альпинист, блаженно сопя, уснул.
Меланхолическая Лиза, вернувшись, нашла Трифона на полу, на коврике, в полном отсутствии сознания и чувств. Но и сквозь бесчувствие продолжал Трифон безоблачно улыбаться.
Ураган в Романове имел серьезные, очень серьезные последствия.
Многих в городе страшно испугало нечто таинственное, вслух непроизносимое, однако с ураганом тесно связанное: ни стародавнему князю Роману, ни блистательной, но слегка подвергшейся порче времен династии Романовых, ни Трифону Усынину, ни самому «Главкосмосу» неподвластное.
Пугало и расстраивало также то, что пострадавших от эксперимента было мало, слишком мало. А ведь про рядовые трагедии без сотен и тысяч пострадавших, без растерзанных на куски тел и массово расквашенных морд — кто станет трубить в газетах? Кто будет выискивать исторические аналогии и делать далеко идущие выводы, чтобы хоть таким образом добавить и городу, и науке финансовых вливаний, оживить дивную и местами благостную, но в последние десятилетия слегка обветшавшую среднерусскую жизнь?..
Ведь пострадала от эксперимента — правда, очень серьезно — одна только Ниточка Жихарева.
Когда Ниточка пыталась остановить принявший опасные формы эксперимент и отпихивала приклеившегося к мониторам Cтолбова, ее отшвырнуло взрывом в сторону. Ударившись об угол стены, она надолго потеряла сознание. Взрыв был не так чтобы сильный, просто источник его находился к Ниточке слишком близко.
— И с чего это вдруг у нас рвануло? — потеряно спрашивал себя Столбов. — Никогда ничего и не взрывалось, а тут…
Почему произошел взрыв, когда взрываться было абсолютно нечему, — ни вдумчивый Столбов, ни язвительная Леля понять не могли. Теперь этим делом занимались хорошо знающие взрывотехнику люди.
И сперва проверяющим пришла в голову дежурная мысль: терроризм!
Но такой соблазнительно-легкий ответ почти сразу пришлось отбросить. Никаких следов террора в Романове пока не просматривалось.
Вторая мысль — эфирозависимые набедокурили — тоже по первым прикидкам не подтверждалась.
Третью мысль проверяющие пока не озвучивали. А была она такой: если дело в эфирном потоке, который таким неприятным и странным образом смог воздействовать на лазерные и другие установки — то и разбирать следователям и взрывникам тут, по сути, нечего. Ведь никаких доказательств существования эфира в природе ученые проверяющим не предоставили!
Нашлись в городе и морально пострадавшие. Таких было человек триста. Пострадали они не столько от самого урагана или от вида пылающих аэростатов, сколько от въедливых домыслов, оскорбительных баек и доведенных до абсурда невероятных предположений вроде появления в Волге-матушке стаи белых акул или открытия в городе Романове памятника российской лени — в виде огромного тюленя, развалившегося на царском троне и обложенного по бокам, как подушками, комковатыми блинами.
Ну а некоторые из горожан — те не испугались, те просто обиделись.
Как так? У них под боком ведутся опасные научные работы, а никакой настоящей гласности нет как нет! Нет широких интернет-обсуждений, не было пускай даже мимолетной селекторной связи с Кремлем, «Главкосмосом» или, на худой конец, с Ярославским бюро погоды!
Прямее всех о безобразиях, творимых учеными, высказался ставосьмилетний, но еще бодрый умом Исай Пеньков.
— При большевиках тоже летающие тарелки от народа скрывали. И доскрывались, уроды!
— А вы разве, Исай Икарович, не старый большевик? — спросила Пенькова на следующее утро Муся Тролль, молоденькая феминистка, а в свободное от феминизма время корреспондент местной оппозиционной газеты.
По случаю вздорожания гендерной литературы, а также офсетной бумаги, гипсокартона, ламинированной пленки и масок-балаклав Муся второй день голодала и страшно этим гордилась.
Барышня Тролль была настойчива, проявляла любознательность и заботу. При этом чем сильней она их проявляла, тем больше становилась похожа на маленького кашалотика, с милым, но туповато продолжающим гладкий лобик носом, с широким ртом, мелкими, как зернышки риса, зубами и короткими ручками, словно в предчувствии далекого одиночного плаванья, всегда наизготовку раскинутыми в стороны.
— Так я жду ответа! — Муся-кашалотик от любопытства даже подпрыгнула на стуле.
— Сиськами прешь, а не знаешь! — взорвался Пеньков.
Муся привстала, чтобы уйти, но потом села на место:
— И я не старый большевик. Я — старец мира! А по складу ума — нанокапиталист.
— Во как? Это чего-то новенькое!
— Почему новенькое? Как раз старое. Я ведь уже куда дальше нано забрел! Совсем мелкие частицы вижу. И обновляюсь я, Мусенька, как змей. Шкуру сбросил, новую нарастил — и на рынок, и в народ! А таким, как ты, феминисткам я бы посоветовал…
— Снова поучать будете?
— Не поучать, кашалотик, учить! Живи я в Китае — давно Дэн Сяопином стал бы. А у нас разве станешь? Ты им — Дэн-н-н! А они тебя под зад — Пин-нь!.. Ты им про крендель, а они тебе пендель! А все ваши гендерные штучки, это они довели страну до… до…
У Пенькова из головы вдруг вылетела рифма.
— Да вы не Пинь… Вы у нас — Дэн Cяо Пень! — возмутилась Муся. — А я, между прочим, не кашалотик! Я не синяя и фонтанов не испускаю. И вес у меня, — Муся привстала и поклонилась, — как видите, не кашалотский! А про гендер — вы не смеете! Гендер это… Гендер… А вы… Вы просто заедаете чужой век! Так про вас все говорят. Потому вам посиневшие кашалоты и являются…
— Опять сиськами прешь?
Рассерженная феминистка, грюкнув стулом, ушла. Интервью в газете не пропустили. А старец мира Пеньков впервые за последние сорок лет, ощутив жжение в гортани, поехал, тарахтя роскошной инвалидкой, на край города, в единственную платную, обставленную по последнему слову техники романовскую поликлинику.
Он ехал и бормотал: «Я тебе покажу — Сяо Пень! Я тебе этим Сяо Пнем — да по затылку!..».
* * *
Трифон продолжал маяться: ни туда, ни сюда.
Дело решил один из новых романовских вымыслов.
Меланхоличка Лиза, у которой Трифон, продолжал прятаться от научных невзгод, вдруг разговорилась и, глотая бегущие по щекам фарфоровые слезы, мешаемые с розоватой пудрой, рассказала следующее.
Умерший недавно Рома Петров, которого многие звали Рома беленький и которого не на что было похоронить, будто бы стал по ночам у себя в морозильнике шевелиться.
Несколько богомольных старушек спросили о таком явлении у одного из священников, склонного к общению с паствой. Тот пообещал про этот случай подумать, но внезапно отбыл на епархиальный съезд.
Ознакомительная версия.