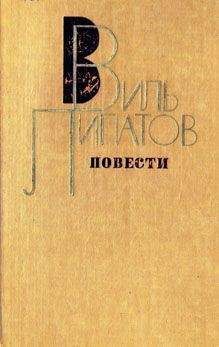– Будь добр, Сергей, ответить искренне, почему ты всегда говоришь: «Так ставите вопрос?» – когда я по субботам и воскресеньям утром подаю тебе кофе?
У Сергея Вадимовича задралась на лоб левая бровь, что он делал, как знала Нина Александровна, только на работе во время очень серьезных происшествий, и по Таежному уж разнеслись слова Симкина: «Если у Сереженьки Вадимыча лезет наверх левая бровь, тикай поскорее: разбушуется!» С главным механиком Таежнинской конторы такое случалось редко, но тем опаснее был Ларин с задранной на лоб левой бровью, и Нина Александровна, знающая гневное состояние мужа только понаслышке, невольно подтянулась, выпрямившись, почувствовала радостную надежду на что-то новое, очень нужное, такое же необходимое, как воздух. «Закричи на меня!» – попросила она Сергея Вадимовича повлажневшими глазами. И был момент, когда казалось, что это произойдет, но левая бровь у Сергея Вадимовича медленно опустилась.
– Ты бы увидела себя со стороны, когда несешь кофе,– сказал он.– Ты вся кричишь: «А я вот тебе кофе несу! Смотри, сама несу, не побоялась унижения, сама несу для тебя кофе!»
По улице проехал тяжелый и, судя по гулу мотора, новый грузовик, заворачивая в переулок, шофер резко перегазовал, и вместе с порывом алтайского ветра в комнату через открытую форточку проник запах бензинной гари.
– Это для меня открытие,– медленно сказала Нина Александровна.– Я-то думала, что моя физиономия тает от любви, когда я несу тебе кофе…
Она вовремя остановилась, так как произошло то, чего надо было ждать от Сергея Вадимовича: широко открывая рот и показывая тридцать два отменно здоровых зуба, он беззвучно хохотал. Прохохотавшись, Сергей Вадимович подошел к дивану-кровати, забрался на него с ногами и стал глядеть на Нину Александровну исподлобья, не мигая. В молчании прошло, наверно, полминуты, потом Сергей Вадимович сказал:
– Я люблю тебя, Нинка!… Я здорово люблю тебя, баушка!
Баушкой муж называл Нину Александровну в лучшие минуты семейной жизни, но сейчас он поступил глупо и нетактично, сказав ей о любви и назвав баушкой. Ему надо было молчать, молчать и молчать.
– Я тебя тоже люблю,– сказала Нина Александровна.– Я тебя тоже люблю, Сергей, но ведь так жить нельзя… Я не ревную, Сергей, но твоя студенческая язва зарубцевалась, когда ты полюбил Ирину, а вот теперь…– Она поднялась.– Прости, я хочу побродить по улице… Мне надо побыть одной.
На дворе было уже совсем темно, потеплевшие тучи пенились над головой, на телеграфном столбе по-осеннему раскачивалась электрическая лампочка, и свет от нее то падал на лицо Нины Александровны, то уходил за ее спину. «Слабого мужчину я полюбить не могла, а сильные меня обходили!» – вспомнились ей слова знаменитой учительницы Садовской, и сразу же захотелось пойти к ней, и Нина Александровна, заранее обрадовавшись предстоящей встрече, пошла к дому Серафимы Иосифовны энергичным и ходким шагом, но скоро начала замедляться, подумав: «А не поймет ли Серафима Иосифовна, что я несчастна?» От этой мысли она совсем остановилась, отвернувшись от ветра, поняла, что ей действительно надо побыть одной, окончательно разобраться во всем, что навалилось на ее широкие и прямые плечи; она будет бродить в темноте, зайдет в самые отдаленные и узкие переулки Таежного и наконец выйдет на берег реки и сядет на широкий пень.
Пень на обском берегу был хорошо знаком Нине Александровне: она просиживала на нем часами, когда было трудно, когда не знала, что делать, как поступить; и вот теперь Нина Александровна опять сядет на одинокий пень, посидев полчасика.
Они выпили по второй граненой стопке, посидели немного молча, потом закурили – Валька Сосина папиросу «Беломорканал», а Нина Александровна достала из шубы сигареты. Она все-таки немножко опьянела. Звуки она теперь слышала так ясно и отчетливо, словно улица въехала в комнату Валентины, движения сделались длинными и протяжными, как в замедленной киносъемке, но голова оставалась ясной.
– Ты ешь сало, Нинка! – сказала Валентина.– Ты сейчас такая бледная, что, неровен час, брякнешься в обморок… Закуси.
Нина Александровна отрицательно покачала головой:
– Не хочу.
Въехавшая в комнату улица приобретала веселый бодряческий голос: перекликались пижонскими баритонами молодые люди, смеялись девчонки, шло по дороге одновременно несколько машин, парикмахерский репродуктор передавал джаз, словно мокрый флаг, хлюпал в кустах палисадника весенний ветер – все вообще было такое, что поселок Таежное надо было на самом деле переименовывать в город, и Нине Александровне вдруг стало хорошо. Водка – кто мог ожидать этого! – внезапно, рывком притупила чувство боли в сердце, в котором саднило что-то и что-то сжималось, а вот теперь стало легко дышать.
– А, забрало! – засмеялась Валька Сосина и потерла руку об руку.– А я уж думала, что ты вовсе не пьянеешь, а только уходишь в бледность.
– Я пьянею, Валя,– длинными, протяжными словами ответила Нина Александровна.– Я быстро сегодня пьянею и прошу тебя ответить на мой вопрос… Мне это очень надо, Валька!
Теперь было слышно, как на сплавконторском рейде тоненько и зудно поет циркульная пила. Это продолжали пилить кругляк для ремонта катеров, и визг пилы был связан с Сергеем Вадимовичем тем, что именно он решил установить собственную примитивную пилораму, чтобы иметь свой пиловочник, а не зависеть от лесозавода, на котором работал несимпатичный мужу директор Морозов, а сам завод находился в Тагаре.
– Мне это очень, очень надо! – повторила Нина Александровна.
Валентина поднялась, подойдя к окну, села бочком на широкий подоконник, на котором стояла герань в выщербленном горшке. Подумав, она поставила одну ногу на подоконник, на ногу взгромоздила локоть той руки, которая держала папиросу, и стала глядеть в окно. В молчании прошло минуты три-четыре, потом Валька, продолжая глядеть в окно, негромко сказала:
– Значит, насчет дома.– Она усмехнулась.– Ты им подавишься! Так что сплетня правильная…
Теперь с Ниной Александровной от выпитой водки произошло что-то такое, отчего она почти оглохла, но зато мысли сделались четкими и яркими, как утренняя трава. Ей вспомнилось что-то далекое, цветное, смутное, но очень важное для нее сейчас. Что это было, Нина Александровна сразу понять не могла, но на всякий случай запомнила видение и громко, сама себя слушая со стороны, спросила:
– Почему же, а, Валентина?
И не услышала ответа: такой была глухой от двух стопок водки и того, что произошло между нею и Сергеем Вадимовичем… Наверное, через минуту Нина Александровна поймала себя на том, что за руку прощается с Валентиной Сосиной, говорит ей какие-то добрые благодарственные слова, а потом, замедленная как черепаха, выходит из низкого барака, думая о том, что не надо было пить водку. Она говорила, видимо, следующее:
– Спасибо, Валя, за водку, благодарю за прямой ответ, но мне надо идти… Я опаздываю, Валентина. Я к тебе забежала только на минутку. Только на минутку…
На дворе Нину Александровну схватил в охапку сырой ветер, свет раскачивающегося уличного фонаря возле клуба опять то освещал, то затемнял ее лицо, и от этого было такое чувство, словно кто-то следил за Ниной Александровной: зажигал карманный фонарик в те мгновения, когда терял ее из виду, и тушил, как только находил. «Что же это такое цветное и яркое я видела?» – подумала Нина Александровна, продолжая шагать к дому, но вспомнить опять не смогла и дошла бы до дома безостановочно, если бы не услышала удивленный протяжный голос:
– Ни-и-и-на Алекса-а-а-а-ндровна, это вы? А я думаю, кто это такой знакомый…
Когда из темноты на Нину Александровну как бы навалилась громадная и медленная от вечерней важности домработница Вероника, Нина Александровна внезапно все вспомнила: цветное – это был рисунок в одном из тех журналов, которые Вероника украла у англичанки Зиминой и притащила в сумке вместе со щенком.
– Нина Алекса-а-а-а-ндровна, а я в школу пошла!
– Идите, идите, Вероника…
Не раздеваясь Нина Александровна вошла в кухню собственного дома, быстренько разобрав журналы, достала необходимый… Нет, это был не рисунок! Увы, это был не рисунок, а цветная фотография, на которой изображались два голых человека, обращенных к объективу спиной. Взявшись за руки, они шли к воде, и было неизвестно, кто из них мужчина, а кто женщина, хотя на английском значилось: «Влюбленные»; кто-то из них был женщиной, кто-то мужчиной, но фигуры были одинаковыми – широкоплечими, узкобедрыми, длинными, плоскозадыми… В квартире было так тихо, что дом казался вымершим, и Нина Александровна отчего-то на цыпочках подошла к коридорному шкафу, сняла шубу, включив электричество, повернулась к зеркалу… В длинном холодном стекле отразилась высокая фигура, прямые плечи, узкие бедра и сильные руки с крупными пальцами. Далее имелись: большой, мужской чеканки, нос, волевой подбородок с небольшой ямочкой, мужская морщина между бровями, квадратный решительный рот, высокий лоб и строгие глаза мужского цвета – карие.