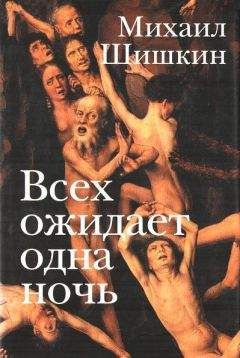— Входите, входите, он там, у себя!
Я поднялся по шатким ступенькам. Я думал увидеть все ту же веселую пернатую каморку, но было тихо.
Я постучался. Из-за двери послышалось:
— Войдите, кто там?
В комнате был полумрак. Пол еще больше выгнулся дугой. В углу стояла неопрятная кадка, исполнявшая должность ванны. У полуразвалившейся кровати вместо одной ножки было подставлено полено. Вместо подсвечника стояла бутылка, из горлышка торчал огарок свечи. У подслеповатого окошка висело заржавленное зеркало. Птичьих клеток не было и в помине.
Пятов сидел спиной к двери за кособоким столом и что-то писал. Я видел только его затылок, совсем полысевший, и заштопанные локти.
— Кто там? — спросил он снова и обернулся. Старость сделала глаза его бледными, как спитой чай.
— Я не вижу, кто это?
— Аркадий Петрович, это я, Ларионов, помните?
— А, это вы, — сказал Пятов, совершенно не удивившись. — Проходите. Вы уж извините, у меня тут работа. Спешу закончить в срок. Я тут, знаете, беру переписывать. Платят гроши, да жить-то как-то надо.
Он снова склонился над бумагой и заскрипел пером. Уже смеркалось, и писать было темно.
— Да зачем же вы глаза ломаете? — сказал я. — Зажгите свечку.
— Ничего, ничего, — протянул он, — посумерничаем.
Мне показалось, что он от старости совсем уже спятил и неизвестно за кого принимал меня.
— А где же ваши соловьи, Аркадий Петрович? — спросил я.
— Мальчишки их отравили, — отвечал он, не отрываясь от бумаги. — Прихожу домой, а соловушки мои все дохленькие. Подсыпали им что-то. Я и клетки все продал.
— А что же новых не завели?
— Легко сказать. К ним ведь привыкаешь, как к родным детям. Прирастешь к ним душой, а мальчишки опять отравят! Да и жить-то мне сколько осталось? Не сегодня завтра отправляться, а с ними что будет?
Я стал расспрашивать его про наших сослуживцев.
Нольде умер давным-давно.
Барадулин тоже, но умер не по-людски. Попал в прорубь Кабана ночью, возвращаясь откуда-то пьяный. Тело его летом выплыло у забора Вараксинского завода.
В соседней церкви зазвонили, и Пятов оторвался от писания, перекрестился испачканными в чернилах пальцами, откинулся на спинку стула, покрутил головой, любуясь на свои каракули, грызя стебло разлохмаченного пера, потом снова принялся за работу.
Я сунул ему под подушку несколько ассигнаций и попрощался.
— И вам всего хорошего, — ответил он, даже не обернувшись.
Зашел я и к Солнцеву.
Встретила меня босая горничная в деревенском платке на голове и растерянно пробормотала, что барин в саду. Там я увидел нечесаного старика в засаленном полинявшем халате на мерлушках, с пришпиленной к нему звездой и подпоясанном простой веревкой. Он важно гулял по дорожке и остановился, глядя на меня из-под густых, нависших над глазами бровей. Солнцев отрастил бороду и усы, которые под носом были желтого цвета, вероятно, от курения табака. Он носил на лбу зеленый козырек, который ему прописал доктор, чтобы спасти больные глаза от солнца.
Я боялся, что он не узнает меня, но память была у старика еще свежа, он даже вспомнил, как меня зовут и как я тогда ушел, хлопнув дверью.
— Пройдемся, — сказал Гавриил Ильич и взял меня под руку. — Познакомлю вас с моими преданными друзьями, с которыми я коротаю время.
Перед каждым большим деревом стояло по ведерной бутыли, чем-то наполненной, и на каждой был ярлык. На одной из них значилось крупными буквами: «Наш российский ерофеич», на другой: «Семитравный приятель», на третьей: «Раскаявшийся разбойник», и тому подобное.
У каждой он останавливался и выпивал из маленького серебряного стаканчика, с наперсток величиной, который он носил с собой в кармане. Он строго приказывал выпить и мне. Как я ни отказывался, пришлось мне тоже подружиться с его приятелями.
Я долго не решался задать этот вопрос, потом все-таки спросил:
— Скажите, Гавриил Ильич, вы видели меня тогда? Ну, тогда, вы понимаете?
Старик ничего не понял и снова принялся рассказывать, как его изгоняли из университета.
— И я пошел туда, потому что мне было интересно посмотреть на их лица, ты понимаешь? Я хотел увидеть их глаза! А потом всех простил, всех!
Кажется, старик даже не заметил, что я ушел.
К будущему узкому жилищу моему я привыкаю постепенно. Все мое жизненное пространство сузилось теперь до кровати и кресла. Но слава человеку! Нет такого положения, в котором он не находил бы себе радостей. Пусть я прикован к креслу, зато волен выбирать себе окно.
В одном окне двор, весь запечатанный собачьими облатками, как письмецо. Здесь царит жизнь, то и дело кто-нибудь пройдет, с ведром ли, с упряжью. Здесь же весь в наледи колодец. Все скользят, падают, но никто не догадается сколоть лед.
Из другого окна видны занесенная снегом дорога на Кудиновку и черная полоска леса. Там, в лесу, назло болезни в мае, когда все распустится, я прикажу устроить себе завтрак и обопьюсь чаем из самовара, буду пить стакан за стаканом, сколько душе угодно, да слушать, как заливаются кудиновские соловьи.
Что ж, я не боюсь смерти. Чему должно случиться, то все равно произойдет.
И умирать я тоже буду счастливым. Я ведь жил и жизнь всю свою прожил, и что еще нужно?
И дал бы мне Господь нынче еще одну жизнь, прожил бы ее точно так, ничего бы в ней не изменил, ни слова, ни взгляда, ни вздоха. И ни в чем не раскаиваюсь. И ни о чем не жалею. Как все есть, так оно и должно быть.
Сейчас, к вечеру, снова стало полегче. Я давно уже приспособился писать лежа в подушках на большом подносе.
Велел открыть окно. Сердце отпустило, и задышалось свободно. Из сада воздух идет свежий, теплый, парной. Уже не оттепель, а весна. Смотрю на деревья, мокрые до черноты. Туман. Капель.
Так лежал, слушал и дышал, дышал.
Что-то написать хотел, что-то важное, да забыл и вспомнить никак не могу. Ничего, завтра допишу.
Заглавная буква, Софья Павловна, есть начало всех начал, так что с нее и начнем. Если хотите, это все равно что первое дыханье, крик новорожденного. Еще только что ничего не было, абсолютно ничего, пустота, и еще сто, тысячу лет могло бы ничего не быть, но вот перо, подчиняясь недоступной ему высшей воле, вдруг выводит заглавную букву и остановиться уже не может. Являясь одновременно первым движением пера к точке, это есть знак и надежды и бессмыслицы сущего. В первой букве, как в эмбрионе, затаена вся последующая жизнь до самого конца — и дух, и ритм, и напор, и образ.
Не утруждайте себя так, Евгений Александрович. Я — курица, а вот моя лапка. Лучше расскажите что-нибудь забавное. У вас ведь на службе каждый день что-то интересное, всякие преступления, убийцы, проститутки, насильники.
Да какие они, Господи, преступники. Обыкновенные люди. Кто в винном дурмане, кто в беспамятстве натворили невесть что, а теперь сами себе ужасаются, мол, знать не знаем, ведать не ведаем, и вообще, как вы могли подумать, что я, такой хороший и добрый, мог такое совершить! И вот пишут, пишут куда только можно прошения, ходатайства, молят о снисхождении, а перо держать толком никто не умеет. Позвольте я вам покажу. Левую сторону среднего пальца нужно близ ногтя приставить к правой стороне пера. Вот так. Большой палец, тоже близ ногтя, прикладывается к левой стороне, а указательный сверху не нажимает, но лишь касается, как бы поглаживает перу спинку. Опирается же перо об основание третьего сустава указательного пальца. Эти три пальца и называются писательными. Ни мизинец, ни безымянный не должны дотрагиваться до бумаги. Между рукой и бумагой всегда должно быть пространство, воздух. Если рука не свободна, лежит на бумаге или упирается хоть кончиком мизинца — не может быть свободы в движении кисти. Перо должно касаться бумаги слегка и непринужденно, без малейшего напряжения, как бы играя. А мизинец и безымянный, уверяю вас, есть лишь животные атавизмы, и без них можно писать и креститься.
Вот видите, и у меня ничего не получается. А я, знаете, решила тут как-то на днях утопиться. Да-да, не смейтесь. Нацарапала короткую записку и прилепила на зеркало. Но сначала почему-то решила сходить в баню, не знаю почему. Отчего-то запомнилась одна здоровая рыжая баба, она мыла голову напротив меня. Вся усыпана веснушками — и грудь, и живот, и спина, и ноги. Волосы густые, длинные и впитывали в себя столько воды, что когда эта рыжая распрямлялась, в шайке было почти пусто, а на дно обрушивался целый водопад. А когда я наконец пришла на мост, внизу плыла какая-то баржа. Мужики оттуда что-то кричали и хохотали, мол, давай, прыгай. Я жду, когда она пройдет, а следом еще одна баржа и еще. С каждой что-то кричали, смеялись, и конца этим баржам не было видно. Мне тоже стало вдруг смешно, и я пошла домой, там еще, слава Богу, никого не было. Сорвала записку, схватила буханку хлеба и почти всю сжевала. Впрочем, все это не имеет никакого значения, продолжайте. На чем мы остановились?