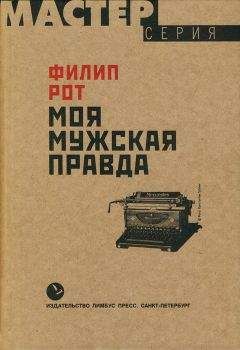А вот с отцом, который во внутрисемейных сюжетах был персонажем второго плана, мне не раз приходилось вести борьбу. Моя растущая самонадеянность его сильно беспокоила. В раннем детстве он не так тесно общался со мной, как мама, с утра до вечера занимаясь магазином, а в трудные времена еще и подрабатывая по вечерам: жившему по соседству шурину, торговавшему кровельными и отделочными материалами, то и дело требовалась помощь. Однажды отвлекшись от ежедневного труда, отец с понятным удивлением заметил, что клювик невинного птенчика, в который было столь много вложено, требует уже не столько еды, сколько диалога; начались споры и ссоры; язык у меня был подвешен хорошо; я часто ставил противника в тупик, пользуясь логикой и, главное, особым снисходительным тоном, принятым в такого рода беседах. После того как я с отличием окончил колледж, где был лучшим из лучших, отец смирился и практически оставил попытки наставить сына на путь истинный. Когда же стало ясно, что свою самостоятельность я не собираюсь использовать во вред, предаваясь праздности и духовному разврату, папа (и это много говорит к его чести), разумный предприниматель, несокрушимый кормилец и любящий глава семьи, сделал лучшее, что мог: предоставил мне полную свободу.
Шпильфогель, однако, видел все в ином свете. Он именовал мое счастливое детство «так называемым счастливым детством», имея в виду, что пациент внушает себе иллюзорные приятные воспоминания о прошлом, совсем не таком уж безоблачном. Пойдем дальше: почему пациент к этому стремится? Потому что пытается вытеснить память об угрозе, исходившей от матери — женщины властной, сильной, стремившейся руководить поступками ребенка, окружившей его, младшего и сверх меры любимого, коконом чрезмерной тиранической заботы. Теперь о других детях. Моррис (такой вывод сделал доктор Шпильфогель из моих рассказов) был фактически предоставлен самому себе, потому что отец занимался магазином, а мать — мной; это пошло старшему брату на пользу, развив его физическую и психическую конституцию, сделав более самостоятельным и приспособленным. Джоан. Вот что пришло в голову Шпильфогелю на ее счет. Девочка, оттесненная на периферию семейного круга. Гадкий утенок, отнюдь не избалованный добрым вниманием. Заброшенный незаметный ребенок, подавленный физической силой старшего брата и интеллектуальными способностями младшего. Если это так (а по версии доктора Шпильфогелю это было именно так), нет ничего удивительного, что и в свои сорок Джоан все еще компенсирует неполноценность детских лет экстравагантными нарядами, экзотическими путешествиями и великосветскими знакомствами. Одним словом, она стремится вызвать восхищение и зависть у окружающих. «А как у нее с любовниками?» Этот вопрос меня огорошил.
Я ничего не знал о подобных связях Джоан. Мне и в голову не приходило… «Вам многое в голову не приходило», — заверил меня Шпильфогель.
Мне казалось, что мою мать ни в чем нельзя упрекнуть. Она журила меня, когда я того заслуживал, но тут и намека не было на желание целиком и полностью подчинить ребенка своей воле, к чему нередко стремятся родители-тираны. Куда чаще мать меня хвалила. Я знал, что ее забота безгранична, а любовь бесконечна, что я всегда найду защиту, если защита действительно понадобится. Коли уж образ действия матери в чем-то и навредил, так только в одном, доктор: она, любя, внушила мне преувеличенные понятия о моих возможностях и способностях. Я был так уверен в собственной избранности, в безмятежности будущего и определенности жизненного пути, что оказался совершенно беззащитным перед реальными ситуациями и коллизиями. Я потому стал легкой жертвой для Морин, что и не предполагал существования такой гнусности в мире, который, как мне внушили, предназначался лично для Питера Тернопола — как раковина для устрицы.
В одном доктор Шпильфогель был прав: в качестве мужа я занял позицию сбитого с толка мальчика для битья. Но не потому, что когда-либо уже ощущал себя таковым, — наоборот, именно потому, что не ощущал. Шпильфогель, рассуждая о моем на исходе второго десятка крушении, оставлял в стороне годы спокойного плавания, успешного и даже триумфального. Мой «случай» (так я теперь с готовностью именовал мою жизнь) представлял, видимо, пример атавистического детского преклонения перед женщиной, благодетельницей и жрицей, защитницей и наставницей, хранительницей семейного очага. Я был рожден, поднят на ноги и возвышен Доброй Взрослой Женщиной — и не был подготовлен к встрече со Злой Взрослой Женщиной; Злая Взрослая Женщина унизила, растоптала и убила меня. Какие ясные и простые объяснения! Но Шпильфогель все твердил об авторитарности моей матери, о доминирующем влиянии ее подавляющей властности, которой я подчинялся только из страха, подсознательно протестуя и ища спасения. Разумеется, так может быть, доктор; наверное, чаще всего бывает так; абсолютная власть родителей над ребенком ведет к протесту и даже ненависти; но в моих-то воспоминаниях о первых десяти годах жизни доминируют нежность и ласка! А что до моей подчиненности… Не такой уж она была полной, никто не назвал бы маленького Питера апатичным исполнителем чужих желаний. Разве дадут прозвище Пеппи[106] мальчику, который ведет себя, как боящийся плетки щенок? Да и наказывали меня совсем не так жестко, как других детей в нашей среде. «Вас, быть может, жестче», — съязвил я.
Но Шпильфогель не был склонен обсуждать свое детство. В вашем случае нет ничего необычного, сказал он. Младенческий страх перед грозной матерью трансформируется воспоминаниями в любовь. Правда, в вашем случае идеализация на удивление растянута по времени. Вы все еще подавлены материнской властностью и пикнуть боитесь, до сих пор опасаясь наказания. Вы и сейчас по-детски ранимы, избыточно чувствительны к боли, которую может причинить мать. Отсюда нарциссизм как основное средство защиты. Не в силах продемонстрировать отказ от подчинения, вы с юных лет компенсировали эту фрустрацию, культивируя ощущение собственного превосходства. При этом, учитывая особенности вашей личности, проявлялись острое чувство вины и все оттенки амбивалентности[107].
Я опять не согласился с доктором Шпильфогелем. Он ставит проблему с ног на голову. Ощущение собственного превосходства — хорошо, пусть это называется так — вовсе не защита от угрозы со стороны матери, а скорее, наоборот, желание принять ее взгляд на вещи. Я согласился с материнской оценкой, только и всего. А почему бы и не согласиться? Глупо было бы убеждать Шпильфогеля, будто я никогда не чувствовал своей исключительности: я ее, разумеется, чувствовал; но, чтобы ощущать себя выше других, любимому младшему сыну ни к чему ни амбивалентность, ни фрустрации, все куда проще.
Говоря, что спорил или соглашался, а Шпильфогель предполагал или возражал, я лишь самым поверхностным образом отражаю процесс взаимного нашего с доктором общения, посвященного все более раздражавшей меня археологической реконструкции младенчества, продолжавшейся почти год. Гипотезы доктора, высказываемые в качестве аксиом, вскоре стали казаться мне едва ли не оскорбительными. Если я от чего и защищался, то от напористого наступления Шпильфогеля на мой внутренний мир. Если чему и сопротивлялся — то его взгляду на вещи. Защита и сопротивление оказались бы более успешны, будь доктор менее опытен в борьбе с пациентами. (Прочитав эту главу — если будет на то охота, — Шпильфогель, наверное, скажет, что сопротивление в конце концов восторжествовало.) Я не желал брать на себя ответственность даже за обдумывание невероятной мысли о подавляющем и разрушительном влиянии моей матери. Но, споря с доктором и раз за разом не соглашаясь с его соображениями, я все глубже погружался в атмосферу детства и испытывал все более неудержимую потребность изложить свою версию тех безоблачных дней. Что-то в стиле Диккенса. Как и следовало ожидать, постепенно прошлое стало приобретать несколько иную окраску. Оно, как губка, впитывало горечь и слезы по оплеванной несостоявшейся жизни, обиду на отвернувшуюся от меня судьбу; с течением времени я почувствовал, как ненависть, испытываемая к Морин, выходит из берегов и заливает просторы моих воспоминаний. Я все помнил. Я не выкинул из памяти ни одного солнечного эпизода. И тем не менее разъедающее душу общение со Шпильфогелем зашло так далеко, что, когда после десяти месяцев психотерапии я приехал к родителям в Йонкерс на пасхальный обед, резкость и холодность по отношению к матери поразили и ее, бедняжку, и меня самого. Господи, как ждала она общих встреч за семейным столом! Как непростительно редки были эти визиты! И вот — дождалась. И вот… Отозвав в сторонку, Моррис сердито спросил меня: «Слушай, что с тобой сегодня?» Я только пожал плечами. Вечером, прощаясь с мамой, я через силу поцеловал ее, с трудом сдерживая неприязнь, — как будто она, с первого взгляда отторгнувшая Морин, а потом примирившаяся, пытавшаяся даже полюбить ради сына, несет ответственность за мой безумный выбор и должна принять на себя хотя бы часть ненависти, предназначенной этой женщине.