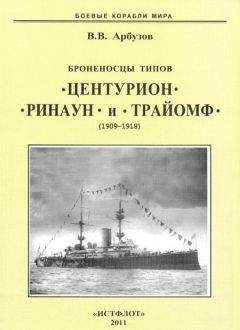В его голосе звучала мука до предела уставшего в страданиях человека.
— Прости меня за то, что я вспоминаю… Ведь была права мама, когда вы ссорились и она говорила в обиде, что ты не народный артист, а народный эгоист республики. Жуткие, конечно, слова! Но по настоящему тебя знает ведь только мама.
— Знать, познать! Что значит сие — знание о знании, что ли? Пустопорожняя болтовня! Прискорбно, но я сам себя не знаю, как не знает себя никто!
— Тогда запомни, пожалуйста. Если ты его выпроводишь, то я уйду вместе с ним. Я буду жить у Максима. Я не смогу здесь…
— Нели, родная моя дочь, за что? Вот она, казнь египетская! За нашу с матерью доброту, любовь к тебе ты хочешь предать меня и маму? За то, что мы создали тебе нормальные условия в эти страшные военные годы? Ты не голодала, была одета, жила в этой квартире. Ты в театральном училище…
— Я не сумею быть актрисой. У меня нет таланта. Я не могу его занять у тебя или у мамы.
— Что за дикость!
— Да, папа, нормальные условия. Я слышала, как ты однажды сказал маме, что только материальными благами в наше ужасное время можно сохранить привязанность детей. Это так?
— Боже, спаси и сохрани от лукавого! Нели, ты в самом деле не любишь ни меня, ни мать! И бессердечно предаешь нас!
— Папа, предаешь меня ты. Я не хочу быть бесчестной к человеку, которому нужно помочь.
— Неужто ты любишь его? Неужто ты… Неужто этот незнакомый мне парень имеет с тобой что-то общее?
— Сейчас это не имеет значения.
— Та-ак, дочь моя, та-ак…
И тишина разорвалась, посыпалась, заплясала в столбах солнца серебристо-металлическими пылинками.
— Вывод ясен и ясен: ты его любишь! — речитативом утверждал в другой комнате сгущенный баритон Бориса Сергеевича и вдруг сорвался, взвился, крича: — А он? Он тебя любит? Ложь! Какая может быть между вами любовь? Это изрядная выгода для него! Расчет! Губа не дура! Любовь! Когда ты его могла полюбить? Где встретить? Как? «Она его за муки полюбила». Почему я ничего не знал, не видел его у нас ни разу? Ты же моя дочь, дочь народного артиста, артиста, а не пьяницы водопроводчика из ЖЭКа! Ромео и Джульетта, божественная идиллия! Ты доведешь меня до инфаркта! Ты в гроб меня загонишь! Я ухожу на Каланчевку, к матери! Делайте что угодно, хоть госпиталь открывайте, хоть кафешантан, хоть дом свиданий, хоть квартиру поджигайте! Я не хочу ничего слышать! Царствуйте! Я ухожу!..
— Где оскорбленному есть чувству уголок, — договорила Нинель с непрочной иронией, и голос ее осекся, упал. — Уходи, папа. Упади на колени перед мамой, попроси прощения. Она простит. Уходи, пожалуйста, иначе мы поссоримся окончательно.
— Экая ты у меня дура, дочь! Экая!..
Прогремели по паркету твердые шаги в другой комнате, отдаленно ударила, гулко отдаваясь на лестничной площадке, дверь — и все смолкло.
В течение нескольких минут, покуда она не входила, Александр со всей определенностью оценил жестокую смелость своего положения: укрываясь по воле Кирюшкина в незнакомом доме, он внезапно разрушил что-то в чужой семье. Этот Борис Сергеевич, еще не так далеко зашедший в годах, был человеком избалованного, недоброго ума, привыкшего не укрощать беззастенчивость собственных суждений. Думая об этом, он на ощупь вытянул папиросу из пачки на столике, но закурить не успел. Вошла бесшумно Нинель, словно только что аккуратно причесанная, но лицо по-прежнему было бледно, под глазами пепельные тени, она сказала:
— Мне показалось, ты спишь, а ты лежишь и думаешь о чем-то.
Александр положил незакуренную папиросу в пепельницу.
— Я слышал часть твоего разговора с отцом.
— Не знаю, что ты слышал, — проговорила она, не изменяя тона голоса. — Больше всего мне отвратительна мужская трусость. Сначала он спрашивал меня, кто ты, откуда, что за драка, почему в тебя стреляли, высказал предположение, что тут не исключена темная история. Он как огня боится милиции и всяких этих учреждений: судов, прокуратур. Не знаю почему.
— Пожалуй, это не трусость, — сказал Александр более непринужденно, чем ему хотелось. — Увидеть в своем кабинете незнакомого раненого парня — подумать можно о многом.
Она стояла у дивана, покусывая губы. Он позвал ее, надеясь ободрить:
— Посиди в этом кресле. Я буду просто смотреть на тебя, если разрешишь…
Она наклонилась, со вздохом обняла его, прижимаясь щекой к его щеке, так что он почувствовал мягко-щекотное прикосновение влажной моргающей ресницы. Она разомкнула руки на его шее, и только после молчания ей удалось улыбнуться ему, жалко хлюпнув носом.
— Нинель, я тебя не узнаю, — сказал Александр. — Совсем не нужны слезы.
— Да это так, одна слезинка… но все прошло. Я хотела спросить тебя. О чем ты думаешь, Саша?
— Хочу остаться самим собой, — пошутил он не в меру легковесно, чтобы снизить напряжение неслучайного вопроса. — Знаешь, в любой стране, во все времена недостатка в донкихотах не было.
Она не приняла его фальшивого легкомыслия.
— Донкихоты умерли. А ты знаешь себя?
— Полностью нет. Но иногда чувствую.
Она опять неуверенно улыбнулась.
— А ты не хочешь стать не тем, кто ты есть?
— Этого я не смогу.
— Но ты же убил человека, Саша.
Александр посмотрел на нее. Она столкнулась глазами с его глазами, и губы ее чуть шевельнулись:
— Прости, если напомнила об этой жути.
— О, царица, сотканная из лунного света, сказал бы Эльдар, — проговорил он, поражаясь своему ерническому тону, но не находя в эту минуту ответа, который был бы правдой. — Послушай, Нинель, — заговорил он, уже тщательно расставляя слова, в которых был мучающий его смысл. — Я очень жалею… Жалею, что случайно достал… уложил эту сволочь… которая перестреляла бы всех нас, если бы…
— Достал? Уложил? Что за странные термины?
— Дело не в терминах. Так говорили в разведке.
— Что «если бы»?
— Если бы у меня не было с собой «тэтэ». Так называется пистолет. Я привез его с фронта. Знаешь, Нинель, пуля ведь совершенно равнодушна к тому, кого убивает. А я видел, как эта обезумевшая мразь стреляет на поражение… Он ранил сначала Эльдара.
— И он стрелял в тебя?
— Да.
— И ты выстрелил в него?
— Убивать его я не хотел. Я не целился. А нечаянных возможностей в жизни — за каждым углом. Кто первый нажмет на спусковой крючок.
— Ты говоришь о нечаянных возможностях?
— Да.
— Это как… как судьба?
— Да. И то, и другое. Ответь мне на один вопрос, Нинель. Что сделала бы ты на моем месте, если это можно представить?
— Нет, Саша, я не могу представить, — сказала она. — Но все равно… даже кусачую собаку… я не смогла бы убить.
— Конечно, — согласился он с внезапной усталостью и лег на спину, приложив руку к бинту, плотным корсетом обкладывающему огненное сверление в предплечье.
— Болит? — чутко спросила она, а он, охваченный будто дурманно-сладкой отравой, со стиснутым горлом подумал, что неприкрытые обманчиво порочной завесой ресниц глаза ее наделены радостным даром — загораться и мягкой нежностью, и готовностью покорной помощи.
— Это еще не боль, — сказал Александр и убрал руку с бинта. — Странно… Ты спросила: болит? Так спрашивала мама у отца, когда он умирал в госпитале.
— Саша, милый, — выдохнула она. — Все бы обошлось…
Стоял теплый и тихий послезакатный час, все мягко золотилось, угасая в вечереющей Москве, над дальними крышами одиноко царила в чистом небе зеленоватая луна. На улицах было светло. Еще не зажигались фонари.
С утра, солнечного и душного, окна были распахнуты настежь, и сейчас в комнате посвежело, везде бродил вечерний свет. Александр лежал один, в полудреме, лицом чувствовал прохладу, слышал, как стихали московские улицы, в этом затихающем шуме звучнее крякали сигналы автомобилей, изредка с опадающим шелестом проходили троллейбусы по расплавленному за день асфальту, слабо доносился электрический треск проводов.
Он любил простодушную городскую жару, палительные летние дни в замоскворецких переулках, когда июльский зной в полуденное время лежит на мостовых тупичков, нежно баюкает, клонит в лень, когда тут пребывает государство тишины и солнцепека, неразрушимый покой в школьных парках, запах сырой земли в тени под сараями на задних дворах, где на приполках в сонной истоме воркуют голуби.
Он любил и ранние утра в своем Монетчиковом переулке, открытые окна в еще росистую сырость тополей; там, в плотной зелени, от взбудораженной возни воробьев трепетала листва, чириканье врывалось в комнату сумасшедшим хором, звенело над спящим двором.
Но ведь был когда-то и маленький немецкий городок со сказочными черепичными крышами, всюду обильно цвели яблоневые сады, дремали весь день, обогретые майским солнцем, и пресно-сладко пахло горячей травой. А он лежал в трофейном шезлонге, читая томик Чехова в дореволюционном издании, найденный в домашней библиотеке разбомбленного на границе Пруссии фольварка, и то смеялся от души над «Пестрыми рассказами» (он запомнил название этой книги), то, отложив книгу, подолгу смотрел в высокое небо, там медленно плыли белыми зенитными дымками облака, а лепестки яблонь планировали ему на грудь, касались шеи, открытой расстегнутым воротником гимнастерки. Он помнил в этом брошенном немецком доме веранду с дрожащей на полу солнечной сетью, заброшенной сюда сквозь ветви сада, помнил майские закаты, потом сплошь позеленевшее небо светилось до ночи, а вечера были призрачны, чутки, пахучи, верхушки деревьев темнели на светлой незатухающей полосе на западе. И, сладостный в лесной дали, рождался и пропадал голос кукушки завороженным отсчетом неизбывной надежды на возможную близкую радость, и тогда ему думалось, что ради этого ожидания стоило и воевать, и жить.