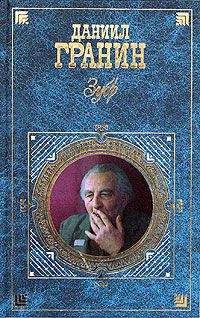Миассово… О нем вспоминают до сих пор: «Мы все вышли из Миассова», «Это было как лицей». На юбилее Зубра читали стихи про то, что вначале было слово, которое они услыхали в Миассове:
Ведь человек и суетен и грешен,
Не отличает в слепоте своей
Немногие существенные вещи
От многих несущественных вещей.
Чему вы только нас не обучали!
Но если все до афоризма сжать,
То главное — и в счастье и в печали
Существенное в жизни отличать.
Быть великим при жизни он не умел. То и дело срывался с пьедестала. Однажды к Тимофееву приехал молодой генетик Варгаш Г. Он прибыл в Миассово как в Мекку, как ходили в Ясную Поляну. Предстать пред очи самого Зубра со своей работой. Чтобы тот взглянул. А работа, по общим отзывам, была замечательная: он статистически прослеживал старую генетическую задачу — когда рождается больше мальчиков, когда девочек, от чего это зависит, дал определение пола потомства, результаты были интереснейшие Но достоверны ли? Зубр, не вникнув, накинулся на него как на шарлатана Страшно слышать было, когда такой большой зверь орал и топтал этого юнца. Это было нехорошо, некрасиво.
Срывался, потом страдал, стыдился. Так что у Зубра все было как у людей.
Он был свободен и не зависим от своей славы.
Завидуя свободе его поведения, я часто спрашивал себя: откуда она, какова природа ее, почему мы не такие? Скованные, зажатые, контролируем себя Сперва думалось, что причина в независимости, которую ему дает талант. Но не все же талантливые люди так свободны. Талант, конечно, вселяет уверенность в себе, достоинство. Однако и от своего таланта он был не зависим Не заботился об оправе, о первенстве Независимость его имела скрытые опоры, глубокие корни. Каждый человек мечтает о независимости, но силы духа для этого не всегда хватает, трудно освободиться от желания славы, успеха, денег. Что касается Зубра, то ему эту силу придавала вера. Он верил в справедливость, в превосходство добра над злом, в абсолютность добра
Независимость связана была и с родословной, с предками, правилами чести Связь эту гениально уловил и сформулировал Пушкин:
Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пишу
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
На них основано от века
По воле бога самого
Самостоянье человека,
Залог величия его.
Задумываясь над секретом Зубра, убеждаешься, что в нем было развито именно самостоянье — слово, изобретенное великим поэтом. Самостоянье как объяснение величия, как ощущение себя продолжателем знатного рода, обязанным охранять его честь.
— У меня по морской линии в предках в восемнадцатом веке адмирал Сенявин, тот, который заменил голландский рассеянный бой кильватерной колонной. Сенявина была моя прабабушка. И Головнина была прабабушка — из тех самых Головниных, помните, адмирал Василий Головнин, который кругосветно плавал, у японцев в плену сидел, изучал Курилы, Камчатку и прочие острова. Еще Нахимов был мне и родственник и свойственник. Последний в роде Нахимовых был почетный нахимовец, мой внучатый племянник. А Невельской был моим родственником по «матерной» линии. По настоянию министра иностранных дел Нессельроде его разжаловали в матросы за «неслыханную дерзость». Состояла она в том, что, исследовав Амур, его устье. Татарский пролив, он, несмотря на все запреты, основал там зимовья и сделал все для присоединения Амурского края к России. Вызвали его во дворец. Николай сказал ему:
«Здорово, матрос Невельской, следуй за мной». В следующем зале царь сказал: «Здорово, мичман Невельской!» В следующем: «Здорово, лейтенант Невельской!» И так до контр-адмирала, пожал ему руку и поздравил. От Николая поначалу утаили всю историю расхождений Невельского с Нессельроде и особым комитетом по амурскому вопросу. Узнав, в чем дело, он его и вызвал, а на докладе комитета написал: «Где раз поднят русский флаг, там он спускаться уже не должен!» А Нессельроде, промежду прочим, тоже в родственниках.
Историю эту я сверил по обстоятельному повествованию Н. Задорнова об адмирале Невельском. В романе есть подобная сцена, которая, очевидно, взята из воспоминаний современников или самого Г. И. Невельского. Но меня удивило, как сохранилась изустная история, передаваясь от поколения к поколению в фамильном роду. С какой сравнительной точностью прозвучала она в очередном трепе Зубра о своих предках.
Он не изучал исторических книг, не любил исторических романов, но был пропитан русской историей, был ее частью. Восемнадцатый век, девятнадцатый и двадцатый, наше время, наша обыденщина представали в его рассказах равноправно, пронизанные единым ходом истории. Ему не надо было дистанции, чтобы увидеть историчность нашей жизни. К современности он относился как летописец. Так же как в своей генетике он умел находить в каждой проблеме существенное, так и в нынешнем дне он выделял то, что определяло время. Это было отнюдь не очевидное. Как докладывал один биолог: «Таким образом, в настоящее время этот вопрос совершенно ясен, что говорит о его слабой изученности».
Историков у нас хватает, а вот летописцы — специальность не частая и не популярная. Легче быть пророком прошлого, чем настоящего.
Он был благодарен любознательности молодых, от этого прошлое сопровождало его постоянно, было под рукой, не истлевало где-то позади в забвении, не осыпалось в пропасть. На эти свои рассказы он не жалел времени и тратил его щедро, как деньги.
Завеиягин поднял на ноги все учреждения, разыскивая Зубра. Какие-то бумаги затеряли, и не так-то просто оказалось его найти. Завенягин настойчиво заставлял продолжать поиски. Ему докладывали, что такого нет, не числится, не обнаружено. Завенягин не верил, что эта махина, мастодонт может незамеченно исчезнуть. И он добился своего, отыскал Зубра в Карлаге. Был он в тяжелом состоянии, обессиленный, с последней стадией пеллагры, страшной лагерной болезни, когда от голодухи наступает авитаминоз, такой, что никакая пища уже не усваивается. Соседи по бараку тащили его на работы в котлован, сажали там к стенке, и он пел. Единственное, на что еще хватало сил, — петь. Ради этого и возились с ним заключенные.
Он умирал. Казалось, при его здоровье, силе он мог выдержать и не такие лишения. Но в том-то и штука, что для него беда была не в лишениях, не они сыграли роко вую роль. У него не осталось ничего, за что стоило бы держаться.
Самочувствие ученого, которого лишили работы, лаборатории, опытов, настолько тяжелое, что не ученому его трудно понять. Резерфорд, тот мог понять Капицу, который в Москве, в нормальных бытовых условиях, но лишенный возможности работать, бесился, впадал в депрессию. Беспокоясь за его состояние, Резерфорд писал: «Как можно скорей принимайтесь за научную работу (пусть даже это не будет эпохальная работа!) — и Вы почувствуете себя более счастливым. Чем труднее будет эта работа, тем меньше времени у Вас останется на другие заботы. Как известно, сколько-то блох собаке нужно, но, как мне кажется. Вы считаете, что Вам блох досталось больше нормы».
Сам Капица писал Бору: «Наш институт находится в стадии завершения. Мы получили научное оборудование, надеюсь возобновить нашу научную работу. Испытываешь огромное облегчение, приступая к исследовательской работе после двухлетнего перерыва. Я никогда не думал, что научная работа играет такую существенную роль в жизни человека, и быть лишенным этой работы было мучительно тяжело».
В положении Зубра все несравнимо заострилось. Жажда жизни покинула его, жизнь лишилась прелести, смысла…
Его положили в сани и повезли на станцию. Приказ есть приказ, тем более категорический — доставить немедленно в Москву. Раз немедленно, то лечить не стали. Сто пятьдесят километров предстояло скрипеть на лютом морозе. К тому же на прощанье уголовники, те самые, что возлюбили его за бас, за разбойные песни, вырезали бритвочкой спину его суконного бушлата. Все равно доходит профессор, доедет мертвяком, так что ж добру пропадать, из сукна теплые портянки выйдут. Труп зла не помнит…
Сани двигались в ледяном мареве, розовое туманное свечение застилало ему глаза. Чудно, не было никакого беспокойства и серьезного отношения к пропащему своему положению.
Кончено дело, зарезан старик,
Дунай серебрится, блистая…
На станции погнали в вошебойку, у него сил не было идти, потащили на рогоже. Поезд в Москву вез его через всю Россию, тряся по раздолбанной, надорванной войной железке. Организм пищу не принимал, все проскакивало. И боли не было, изболело все что могло, все внутренности, осталась легкость пузырчатая, даже на стоны сил не мог набрать. Ехал в полном беспамятстве. Звуки к нему еле доносились, только по дрожанию пола под ногами понимал, что все еще едет. Конца не было этому пути. Сознание вспыхнет иногда копотно, и не понять — неужто жив еще, за что она цепляется, душа, кажись, все оборвано, а не отлетает, какая-то жилка осталась, держит, дряблая, тонкая, не натягивается, сил нет, но что-то пульсирует в этой жилке еле слышно. Чудеса да и только. Всякий раз, выныривая из обморочности, равнодушно удивлялся самостоятельной живучести своего организма. Прерывистое сознание перешло в прерывистое забытье, просветы возвращались все реже, исчезновение из жизни не вызывало огорчения.