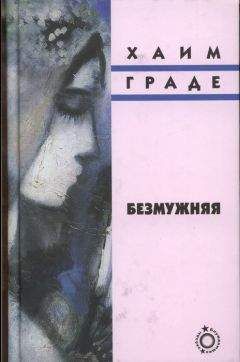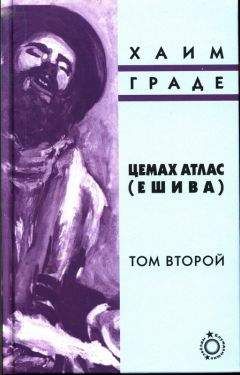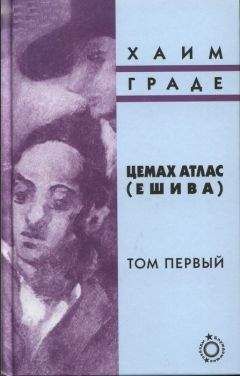В молельне реб Шаулки, где собирались знатоки Торы и ярые агудасники, творилось нечто несусветное. Молодые люди, сидевшие зятьями на содержании, не могли оправдать свое участие в делегации к раввину. Человек с острой бородкой и с резким голосом при всех собравшихся попрекал своего зятя: если бы он знал заранее, то с таким большим приданым заполучил бы для дочери зубного врача. Другой тесть, кругленький, с лицом, как полная желтая луна, кричал на зятя еще громче: «Когда я сидел в зятьях, я учил Тору, а не воевал с мизрахниками!» Молодые люди оправдывались: они думали только о славе небес, но реб Лейви Гурвиц хватил через край от сильного расстройства, что его безумная дочь голой выбежала из комнаты. Именно при этих речах на пороге молельни реб Шаулки появился реб Лейви Гурвиц. Обыватели тут же умолкли и позже так и не узнали, слышал ли он, что говорили о нем и его дочери. Он шагнул к своему месту у восточной стены и строго крикнул группке растерявшихся прихожан:
— В чем дело? Чем днесь не день? Почему не приступают к вечерней молитве?
Голос его был не тихим и надломленным, как ожидали, но звучал воинственней обычного. После молитвы, когда он собирался уходить, оба молодых зятя задержали его у выхода и принялись мямлить: вааду, мол, следовало бы вывесить объявление, что люди из молелен не несут ответственности за самоубийство агуны.
— Ваад и люди из молелен обязаны взять на себя ответственность за все, что произошло, — ответил реб Лейви и вышел из молельни.
Жители двора Шлоймы Киссина знали: чем сумрачней на душе у раввина, тем ярче по ночам горит свет в его окнах. Он бегает по комнатам и читает псалмы. Но когда дочь раввина снова забрали в сумасшедший дом, в квартире становилось темно к десяти часам вечера. Раввин, видимо, уж не надеялся на исцеление дочери и перестал молиться. И вдруг у него опять ночи напролет стали гореть электрические лампы. Хьена, соседка, убиравшая у раввина, слышала от шамесов раввинского суда, что ребенок полоцкого даяна лежит в детской больнице на Погулянке; и она сама присутствовала при том, как ее хозяин гнал туда шамесов узнать о состоянии здоровья мальчика. Реб Лейви бегал по комнатам с книгой псалмов в руке и молился все время, даже среди ночи. Хьене пришла в голову странная мысль, и она сказала соседям:
— Знаете, что я скажу вам? Мой раввин днем и ночью читает псалмы за выздоровление ребенка полоцкого даяна.
Люди пожимали плечами. Все знали, что реб Лейви Гурвиц был главным противником полоцкого даяна в деле агуны; а теперь он читает псалмы за выздоровление ребенка своего врага? О склонности его поступать вопреки здравому смыслу судили и по тому, что он отправился на вечернюю молитву именно в тот день, когда весь город ходил ходуном из-за повесившейся агуны. Лавочники готовы были поклясться, что, возвращаясь из молельни, реб Лейви напевал себе под нос какой-то нигун.
— Такой медный лоб может быть только у мошенника! — толковали между собой лавочники.
Поздно вечером из общинного правления вернулись мясники и рассказали: они устроили городским старшинам такое, что те во весь дух помчались хлопотать, чтобы тело агуны не вскрывали. Завтра утром ее перевезут из больницы святого Якуба в еврейскую больницу на Госпитальной, а послезавтра будут торжественные похороны с пароконной упряжкой. Мясникам сообщили, что раввин из двора Шлоймы Киссина, виновный во всех бедах, имеет наглость расхаживать по улицам.
— Очень хорошо, — обрадовались мясники, — он просто умирает от желания попасть на кладбище вместе с агуной. Мы доставим ему это удовольствие. Мы ему поможем!
— Его помощники разбежались, как мыши по норкам, но это неважно. Все эти святоши — просто вонючки, а настоящий корень зла — он сам!
— До похорон он тоже может взять ноги в руки и сбежать, как другие.
— Тогда мы устроим погром в его доме, — ответили мясники, а потом долго о чем-то толковали, курили, сплевывали, ругали раввинов и разошлись по домам.
Реб Лейви Гурвиц не боится
Реб Ошер-Аншл, раввин, ведавший разводами, послал своего Иоселе к реб Шмуэлю-Муни, а зятю, Фишлу Блюму, велел идти к реб Касриэлю Кахане — к двум раввинам, которые вместе с ним участвовали в раввинском суде над полоцким даяном. Реб Ошер-Аншл просил их немедленно прийти в дом реб Лейви. Однако ему самому пришлось кричать и даже топать ногами, пока он не сумел вырваться от жены и дочери, которые не хотели пускать его на неспокойную улицу. Когда Иоселе пришел к реб Шмуэлю-Муни, законоучителю с улицы Стекольщиков, там повторилась та же сцена, что и в доме реб Ошер-Аншла. Обе дочери реб Шмуэля-Муни широко раскрыли свои обычно узкие, прищуренные, полные презрения к миру глаза, крича, что в такой день, как сегодня, раввину лучше и вовсе не показываться на улице. Но в реб Шмуэле-Муни пробудился великий деятель, вертящий всеми раввинскими заседаниями, и он решительно отправился к реб Лейви. Фишл Блюм же впервые, пожалуй, не застал у реб Касриэля Кахане коммерсантов, улаживающих конфликты. Реб Касриэль долго взвешивал на ладони конец своей тяжелой медно-красной бороды, обдумывая, идти или не идти, и в конце концов решил, что пойдет. На раввинов, пробиравшихся переулками, глядели из всех уголков, и они поэтому торопились, шли, низко опустив головы, жались к стенам, как во время ливня.
Все трое стали уговаривать реб Лейви, что ваад должен постановить и объявить так: агуна наложила руки на себя не из-за запрета на второе замужество, а оттого, что против нее выступил ее бывший жених, перекупщик; а полоцкого даяна преследовали не раввины, а его старые враги. Реб Лейви, обычно носившийся по комнатам, на этот раз спокойно сидел за столом, прихлебывал чай, закусывал, и по поведению его чувствовалось, что он испытывает удовольствие, глядя, как коллеги его дрожат со страху.
— Мы не вправе допустить, чтобы город взвалил на нас ответственность за несчастный случай! — подпрыгивает в сильном волнении реб Ошер-Аншл.
— Вы полагаете, что всегда можно отделаться от ответственности, сказав, что она лежит не на нас? — пускает реб Лейви шпильку в своего шурина, который выдал за него сумасшедшую сестру.
— Не моей рукой пролита эта кровь, — не желает на этот раз промолчать реб Ошер-Аншл. — Я был против того, чтобы действовать по всей строгости закона. За неимением выхода я согласился, чтобы полоцкому даяну на некоторое время перестали платить жалованье. Мне и в голову не приходило, что из-за этого может случиться такое несчастье!
— Я тем более был против! — гудит, точно колокол, реб Касриэль Кахане. — Но реб Лейви настоятельно требовал наказания для полоцкого даяна!
Малорослый и юркий реб Шмуэль-Муни вне себя. С его лица даже исчезла обычная горько-презрительная усмешка. Волоски на его толстом носу шевелятся, а волнистая борода взмокла от пота.
— Все несчастья произошли из-за того, что мне не дали устроить это дело. Каждый знает, что все относящееся к политике — моя специальность. А теперь — сами видите!..
— Конечно, вижу, — барабанит реб Лейви пальцами по столу и глядит на коллег прищуренными глазами, — полоцкому даяну прекратили выплату жалованья; староста не засчитал его в миньян; меламед выгнал его сына из хедера; ребенок у него умер. Я был у него, умолял раскаяться, и жена его тоже просила, но он остался при своем. Наперекор Учению, наперекор всем ранним и поздним авторитетам, наперекор виленскому вааду — он остался при своем. А мы, законоучители из ваада, испугались сброда, точно мальчишки из хедера — вооруженных камнями хулиганов-гоев.
— Вы кашу заварили, а нам расхлебывать? — вскипает реб Шмуэль-Муни.
— Город считает вас виноватым, и мы многим рисковали, придя сюда спасать вас! — ворчит реб Касриэль Кахане.
— Себя спасать! — обрывает его реб Лейви. — Вы боитесь, что правление общины перестанет платить вам жалованье, — окидывает он горящим взором законоучителей, одного за другим.
Реб Касриэль Кахане вдумчив от природы и избегает лишних слов. Если коммерсант рассказывает ему о чем-нибудь не относящемся к делу, он опускает голову, собирает в горсть край бороды и издает долгое, протяжное «да-а-а!». Это грустное гудение подобно повелительному звону стенных часов с еврейскими буквами, часов, что напоминают на исходе субботы: «пора отправляться к Минхе», «пора приступить к третьей трапезе». Это размеренное, наполовину сдерживаемое, досадливое гудение напоминает коммерсанту, чтобы он поменьше болтал, и коммерсант уважительно замолкает. И сейчас, чтобы не отвечать на обвинения, реб Касриэль Кахане издает свое густое протяжное «да-а-а!». Раз уж дикое упрямство реб Лейви взяло верх над доводами разума, нет смысла с ним спорить. Однако реб Шмуэль-Муни не желает молчать:
— Ни честь Торы, ни честь виленских раввинов вам не важны. Вам до смерти хочется лишь одного: полоцкий даян не должен вас одолеть. Только на этом вы и настаиваете.