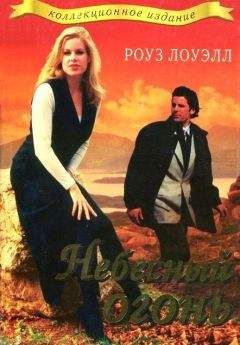Я осторожно играю простейшие инвенции Баха. Играю будто во сне. Ни на что другое я не способен.
Однако я не впадаю в панику. Я встаю из-за рояля, поняв, что впредь мне надо заниматься как можно больше, что, наверное, играть по-настоящему я смогу не раньше апреля. Я мысленно считаю недели. И понимаю, что в таком состоянии Рахманинов для меня недоступен, что мне нужно либо отменить концерт, либо найти для исполнения что-нибудь другое, не требующее такой силы и выдержки.
Странная мысль. Отменить концерт? Играть что-то другое?
Тревоги я не чувствую, я уверен в необходимости всего, что отныне случится. И больше не нервничаю.
Те недели, пока я не могу заниматься, я использую на то, чтобы привести в порядок свои дела. Звоню матери Марианне. Она сердита, потому что все эти месяцы ничего обо мне не знала.
— Я тебя жду, ведь надо продать дом, — возмущенно говорит она.
Да, думаю я. Пусть дом будет ее. Так лучше всего. Я не могу вступать в конфликт с самой старшей женщиной из этого семейства. С ними покончено. Я не буду больше вторгаться в жизнь Сигрюн и ее матери.
— Продавай когда хочешь, — говорю я, испытывая громадное облегчение.
Она медлит. Мудрый знаток человеческих душ. Должно быть, она поражена, что это оказалось так легко.
— Анин рояль, разумеется, остается тебе. — Она бросает пробный камень.
— Спасибо, не надо. У меня есть свой, — решительно отказываюсь я.
Как только я заканчиваю обсуждать со своей бывшей тещей детали своего переезда и кладу трубку, я сажусь и в последний раз слушаю одну из пластинок Марианне.
Снова Джони Митчелл. «Sisotowbel Lane… Noah is fixing the pump in the rain…»
Потом набираю номер телефона моей квартиры на Соргенфригата.
Трубку берет Кристиан.
— Мне надо поговорить с Ребеккой, — говорю я.
— В этом нет необходимости, — отвечает он, его голос вот-вот сорвется от напряжения. — Мы сами собирались тебе звонить. Мы строим себе дом на участке ее родителей. Она сейчас там, на Бюгдёе. Мы переселяемся туда в конце апреля. Разве Ребекка тебе ничего не говорила?
— Мы с ней очень давно не разговаривали. Значит, я смогу сразу же занять свою квартиру?
— Конечно, — говорит он. — Жду с нетерпением, когда я наконец освобожусь от твоих ужасных комнат и этого огромного вонючего рояля!
Мысль об этой маленькой квартире и старом рояле Сюннестведта придает мне силы. Там будет протекать моя будущая жизнь. И хотя меня тревожит, что Ребекка ничего мне не сообщила, я уже могу строить дальнейшие планы.
Я собираю свои вещи. Ту мелочь, которая в доме Скууга принадлежит мне. Ноты и одежду. Их не больше, чем было тогда, когда Ребекка привезла меня сюда на своей машине.
Так проходят дни. Я стараюсь не ездить в город. И до сих пор еще не сделал выбор, хотя понимаю, что времени у меня осталось в обрез.
Однажды, в середине марта, кажется, что уже пришла весна. С деревьев каплет. Снова обнажается асфальт со всеми своими ямами. Пахнет пылью и старым снегом. Будь это в прежние дни, я бы пошел в ольшаник и послушал шум реки. Но теперь я не иду туда. Я ставлю на подставку ноты, которыми все это время почти не пользовался. Осторожными пальцами трогаю клавиши. Потом глубоко вздыхаю и звоню В. Гуде.
Журналист из «Афтенпостен» приходит как раз тогда, когда у ворот уже стоит машина, приехавшая, чтобы забрать вещи Лильерут. Катрине только что распрощалась и ушла. Она помогала мне укладывать вещи, она почти незаметно снова проскользнула в мою жизнь так, как умеют только самые близкие члены семьи, когда дело становится серьезным. В большие окна льется поток весеннего солнца. В лесу уже вовсю цветет ветреница. Мы с журналистом садимся на диванчики Ле Корбюзье, а четверо здоровенных парней из Транспортного бюро начинают готовить рояль к переезду.
Журналист — серьезный человек. Он прочитал обо мне все, что только было можно. Это совсем немного. И, должно быть, поговорил с В. Гуде. И даже с Сельмой Люнге. Теперь он знает все, что обо мне стоит знать.
— Вы уже давно не давали концертов? — доброжелательно спрашивает он, в руках у него блокнот, взгляд устремлен на блесну «Меппс», которую я верчу в пальцах.
— Я бы так не сказал, — отвечаю я. — Каждую неделю я играл для учеников Высшей народной школы в Скугфоссе.
Он кивает. Ему хочется все понять.
— Но после такого громкого дебюта можно было ожидать концертов в других городах и даже за границей!
— Как я понимаю, вы уже поговорили с В. Гуде? Он нам всем помогает. Но я по разным причинам должен был уехать из Осло. И свое турне по Финнмарку я никогда не забуду.
— В сообщениях прессы говорится, что вы поехали на Север, чтобы там работать над фортепианным концертом до минор Рахманинова. Почему вы изменили программу? Почему теперь вместо него собираетесь играть концерт ля мажор Моцарта?
Я раздумываю, как лучше на это ответить со стратегической точки зрения. Сельма Люнге в таком случае сказала бы что-нибудь о внутренней логике музыки, о еще не открытом Моцарте или что-нибудь в этом роде. Но я не решаюсь. Больше никаких отговорок.
— Я много ходил там на лыжах, — отвечаю я.
— На лыжах? — Журналист с недоверием смотрит на меня.
— Да. Не буду углубляться в детали. Скажу только, что во время одной лыжной прогулки в феврале я невольно пострадал.
— Значит, Моцарт — это вынужденное решение?
— Нет, — твердо говорю я. — Моцарт — это прорыв.
Журналист растерян:
— Объясните подробнее.
— Наступает время для примирения, — наконец говорю я, глядя, как рабочие из Транспортного бюро поднимают Анин рояль на прикрепленных к нему ремнях и, постанывая и обливаясь потом, тащат его к дверям и дальше, в ждущую у ворот машину.
— Примирение? — Журналист ничего не понимает.
Следя глазами за рабочими и большим инструментом, он забывает писать в своем блокноте.
— Да, — говорю я. — Способность примириться с настоящим. Способность чувствовать, что ты в состоянии сделать правильный выбор. Я не хочу говорить о себе. Но когда я объяснил это В. Гуде, он, по-моему, меня понял. Конечно, было бы прекрасно, если бы я смог играть Рахманинова. Но какой ценой? Однажды один друг сказал мне, что в жизни каждого человека есть время для Моцарта.
Это было несколько месяцев назад. Я не задумался тогда над его словами. Но вернувшись в Осло после нескольких месяцев, проведенных на Севере, я подумал, что, наверное, в моей жизни наступило именно это время.
А когда наконец осмелился сесть за рояль и начал осторожно играть концерт ля мажор, я понял, как важна для меня именно эта музыка. Может, потому, что она так сдержанна, так ненавязчива, так примиряет человека с судьбой, напоминает о радости, но также и о горе, о том, что утрачено навсегда. Как сказал мой друг, это улыбка сквозь слезы.
Журналист кивает и снова что-то пишет в блокноте.
Я понимаю, что есть много вопросов, которые он обещал В. Гуде мне не задавать.
— Способность отвести горю свое место, — продолжаю я. — Я вдруг понял, что снова могу улыбаться. Музыка что-то сделала со мной, переместила меня на несколько градусов в моей жизни. Двенадцать звуков. Вот все, что понадобилось Моцарту.
— Вы действительно хотите играть Моцарта?
— Да. Поврежденные мышцы заставили меня изменить планы. Мне уже не хочется выражать горячность и депрессию. Бравурность. Демонстрировать технику. Это все когда-нибудь в будущем.
— Значит, ваш концерт — это примирение?
— Да, можно сказать и так.
— Но примирение с чем? Со всем, что вы потеряли?
— Не только.
— Что вы имеете в виду?
— Примирение со всем, что существовало постоянно. И чего я не видел.
Рояль унесен. Остались только диванчики Ле Корбюзье. Журналист понимает, что должен встать.
— У нас получился очень интересный разговор, — замечает он.
— Да, мне тоже было интересно.
Мы вместе выходим из дома, ждем, когда рабочие погрузят на большой грузовик последнюю мебель и уедут. Остались только пластиковые пакеты с моими вещами, которые стоят у лестницы, ведущей в подвал.
Машина журналиста припаркована у поворота.
— Можно мне с вами поехать в город? — спрашиваю я.
— Конечно, о чем речь! Куда вам надо?
— На Соргенфригата.
— Нам по пути. — Он дружески улыбается и берет несколько моих пакетов, чтобы помочь мне донести их до машины.
Я въезжаю в квартиру на Соргенфригата, в которой Ребекка и Кристиан прожили полтора года. Я даже забыл, что она принадлежит мне.