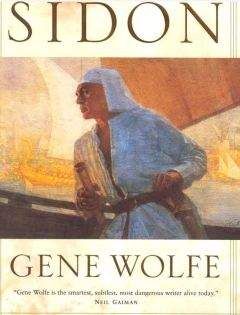Ознакомительная версия.
Легкий, чистый, звонкий, ласковый морозец. Не закусает. Не загрызет.
Ах, зверь…
«Звери. Люди — звери. Люди — звери?!»
Выстрел! И — мимо. Да что он мимо-то все стреляет, ублюдок?! Зачем?! Плохая я дичь, выходит, так?!
Исса улыбнулся, ворот на груди рванул.
На глазах у толпы зипун в светлоструящийся плащ обратился.
Или так ему, ему одному, упорно, упрямо казалось?
— Пошел отсюда!
Хриплый, полупьяный бас ударил его в грудь, как увесистый булыжник. Пошатнулся. Вода тоже шатнулась. Стала набок, наискось, будто синее зеркало в старом доме перекривилось, со стены поползло.
— Ты, слышал, нет?!
Исса поднял руки. Они тряслись.
— Зачем вы… так…
«Ты знаешь, зачем они так. Знаешь, зачем!»
Повернулся. Пошел. Нога за ногу. Качался. Ловил воздух руками.
— Ба, люди, — из-за щербатых зубов бабы, лузгающей орешки, выпал орех злой и гнилой, — да он надрался, однако! А он, это! Ну, видать! Больной заразный! Гони его, — обернулась, кисти платка метелью махнули, — Иван Семеныч!
«Три раза стрельнул. Больше не будет».
Исса шел по берегу. Галька плыла, осыпалась под ногами. Небо плыло и падало. Байкал наваливался тяжестью. Он слеп. Опять прозревал. Шел. Знал: в спину не выстрелят.
Охотник стоял, не опустив ружье. Руки занемели. Спина идущего, уходящего вдоль по берегу так и моталась на мушке. Плюнул изо рта самокрутный окурок. Полы полушубка мотал ветер. Эх, тепло, даром что зима. Эх, мороз, мороз, не морозь меня!
Идет зверь. Уйдет. Человек, что ты, это ж человек!
Беззащитный. Вы все выгнали его. Ты — в него — стрелял.
Стрелял, да промазал.
А он бы — стрелял в тебя?! Ровесник, видать, твой. А может, вы с ним… когда-то… ребятками… снежный городок брали?! Белок — в тайге — первых — били…
Уходит. Уходит.
И до того тоска выкрутила, как тряпку, сердце охотника, что застонал он, кинул ружье на снег, сел на корточки, поднял лицо к небу и завыл, завыл страшно, волчино, длинно.
— У-у-у-у… оу-у-у-у!..
— Будя, Семеныч. — Баба в платке с кистями плюнула наземь ореховую шкурку. — Позабавились, и будя! — Плюнула смачно, вослед идущему. — Проваливай! Смуту навел! Семеныч, — в кармане дубленки поковырялась серьезно, вдумчиво, — орешков хошь?
Выловила горсть орехов. Разжала руку. На ладони охотнику протянула.
Охотник обдал ее ледяной водой ненавидящего взгляда.
— Грызи сама свои орехи, Дашка. Уходит он. Уходит!
— А ты пойди, — хохоток крапивой обжег кривые обветренные губы бабы, — догони!
Охотник наклонился, будто Богу кланялся, поднял ружье.
Исса шел, шел по берегу. Уходил. Они прогнали его. Он не их. Он чужой. Нет ему среди них места. Пусть найдет себе другой шалаш. Логово. Яму в тайге разроет. Заляжет, как зверь. Человек — зверь. Зверь человек, ты слышишь?!
Новую цигарку дрожащими пальцами Семеныч скрутил. Толпа медленно расходилась. Кто весело шел, кто понуро. Потехе конец. А время не кончается. Тянется время, горит на солнце синей водой.
Так стояли: баба лузгала орешки, охотник держал ружье в руках, будто рыбину тяжелую, деревянную, железную, а люди шли и шли, обтекали их, недвижных, как белая вода обтекает угрюмый остров.
Ночь навалилась чугунной плахой. Пригнула к земле. Холод опять взял права. Зима одной левой поборола призрак весны. Ночь и холод, звезды и тьма. Один. Опять один. Люди его не понимают. Люди — гонят его. Это то, зачем он шел сюда, к Озеру?!
— Ты, — тихо и хрипло спросил сам себя, — зачем сюда шел? Ведь ты же к Байкалу пришел. Ведь ты же, бродяга, к Байкалу-то пришел! Мечта-то… ах… сбылась!
Зашелся в кашле. Долго кашлял, согнувшись кочергой. «Я старая, ржавая кочерга, из печи мною, проржавленным и пьяным от тоски, уж никогда не вытащат ни дрова, ни пепел».
Ночная ледяная вода отражала звезды. Спокойное Озеро было еще страшнее, чем Озеро в бурю. Он видел и слышал бурю; теперь пусть увидит и услышит великий покой.
«Ты сам упокоишься скоро. Вот ты идешь; а через минуту не будешь идти. Свалишься. Все мы свалимся. Все застынем горой на берегу безлюдном. А хорошо, должно быть, умирать среди людей! Куда один, один-то прусь?!»
Ему казалось — он видит серебряных рыб, идущих косяками в толще черной воды. Рыбы играли гибкими, почти женскими телами, свивались в клубок, вспыхивали и гасли. То сливались в сплошную яркую стрелу, и она летела в сердце подводной тьмы; то распадалась рыбья стая на множество легких веселых осколков, и ледяные осколки разлетались, разбрасывались по огромному мраку, и мрак поджигался радостью бессчетных живых искр. Вот он Свет. Вот он, там, в глубине. Что ж я делаю здесь, на поверхности железного, ледяного мира?
Шел и шел. Неостановимо. Ноги уже не гнулись, а он все шел. Как заведенный. Ноги деревянные, ноги стальные. Костяные. Идти — вот последнее, что осталось.
Надо идти всю ночь, так и идти по берегу, а то замерзнешь.
Только не садись. Не ложись. Не сворачивайся в клубок старым котом.
Ты не кочерга. Ты не сапог. Ты не кот. Ты не зверь. Ты человек.
Ноги ступали по снегу. По самому краю окостеневшего от мороза берега. Ноги ступали по воде. Уже по ночной шуге ступали. «Я умею ходить по воде. Я могу ходить по воде! Я только… немного забыл… я вспомню!.. сейчас…»
Ему грезилось — впереди круглобокий карбас. Лениво качается на слабой волне. На борту карбаса люди. Рыбаки. Полушубки новые, катанки крепкие. Мороз не проберет. Курят. Переругиваются. Иные водку пьют, передавая бутыль из рук в руки. Закуски нет: ветром закусывают. Обшлагом занюхивают.
Может, шубой укроют… может, водки глоток дадут… глотнуть — и вообразить, что брусникой моченой закусил… ох, хорошо!..
Жаркий мех зверя. Кислая моченая ягода. Белая, ртутная водка.
Вот все земное счастье.
Все?!
За спиной учуял шаги. Шорох шагов все ближе. Встал. Не оборачивался. Человек по берегу бежал за ним. «Если тот охотник — пусть поохотится. Жизни не жалко! А чего же жаль-то? А вот… ее…»
Встала перед глазами беленькая, кудрявенькая музыкантша, Лидия. Волшебное виденье, брысь. Зачем старику баба? Уже ни за чем. Стреляй, Иван Семеныч! Поскорее охота…
Обернулся! Руки раскинул.
К нему по берегу бежала, спотыкаясь, падая и вставая и опять протягивая вперед руки, сломя голову бежала эта девчонка, эта мамашка молодая, эта зверушка в веснушках, эта растрепа, эта…
— Ленка! Шубина!
И он руки вытянул. И сам потянулся весь, вперед, за руками.
И в снег свалился.
Ленка Шубина подбежала. Дышала тяжело, горячо и с под— хрипом. Обняла его. Затормошила. Поднимать стала. Я тяжелый! Ты легкий, ты же легкий как перышко… Вместе встали. Таращились друг на друга. Глаза двух рыб. Глаза двух соболей.
Весь мир — черный кедр, и мы — два соболя в его колючих ветвях.
— Ты это… Прости их… Ну прости, да?! Они же сами не того… не того… Люди же щас знаешь какие злые стали?! Ничо не понимают люди, ну… Прости, ну!
Исса положил руки Ленке Шубиной на плечи.
— Ты за мной… за этим бежала?
Веснушки на лице-яйце, и рыженькие космы по обе стороны лыжной шапки, и шубка распахнута, и молочком пахнет, и дитем, и зверем, и сосной. Неужели она одна тут, в поселке, человек?
— Ну да… — Шмыгнула носом. — Да, да! И не… не только…
— Ты это… — Ее лицо стало еще ближе. — Домой беги… Уж ночь…
— Ночь, — выдохнула. — Ну и что, ночь! Мы же с тобой ночные. Мы знаешь кто? Мы…
— Не говори. — Положил руку ей на губы. Губы руку обожгли. — Я и сам знаю.
Обнялись. Подошли к черной воде. Улыбнулись друг другу. Тела стали длинными, узкими, вытягивались сонно, медленно, радостно. Руки и ноги исчезали. Остроугольно торчали головы. Белыми, красными жемчугами горели хохочущие глаза. Хвосты вились в крупные кольца. Две серебряные рыбы поползли к воде, нырнули в плотную чернь, закрутились, заюлили: танцевали, обнимались, кружились. Влились в серебряный хоровод омулей и ленков. Два сига? Два ельца?
Два омуля, да, два омуля мы, и нет воды слаще, и нет ночи огромней.
Какой чудный сон, Ленка. Ты моя дочка? Ты жена моя? Ты мать моя?
Я белая рыба твоя. Уплывем. Путь дальний!
Толща темно-синей, густо-зеленой воды раздалась, распалась, распахнулась зевом черной печи, и два омуля, взыграв хвостами, канули в нее, упали, растаяли, исчезли.
ДНЕВНИК ИССЫ. БОГИНЯ ГОРЫ КАЙЛАС
сохранившийся пергамент
Переход наш к Лхасе был тяжелым. Более тяжелого перехода в горах не испытывал.
После гибели Длинных Косм, нашего друга Джохара, больше молчал. Слов не ронял понапрасну.
Чем выше поднимаешься в горы — тем крепче и длиннее молчание.
Человек не разговаривает в горах с человеком, чтобы развлечь себя или другого. В высоких горах мало воздуха. Трудно дышать. Тяжело говорить.
А еще в горах есть Порог.
Ознакомительная версия.