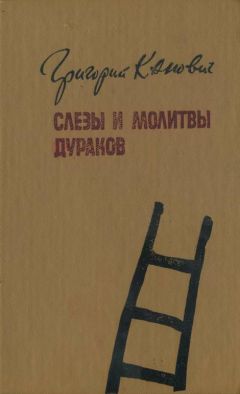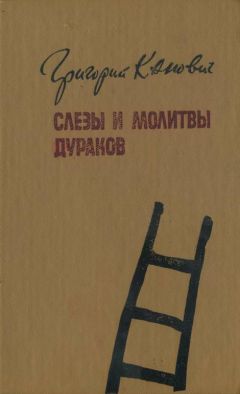— Сюда! Сюда! Вы только посмотрите! Получите миллион удовольствий!..
— Что вы ржете, как лошади? — возмутился Хаим.
— Что там у него в ермолке? — настороженно спросил Ешуа.
— Вода!
— Обыкновенная вода!
— Из Немана!
— Черта с два! Из лужи!
— От нее за версту лягушками разит!
— А он, олух, твердит: волшебная… из Иордана…
— Богохульник!
— Мыши у него в голове совокупляются!
— Гнать его взашей, и вся недолга!
— Явился к шапочному разбору!..
— Кому нужны его вонючие капли? — наперебой орали бородатые евреи.
— Ша! Ша! — рявкнул Хаим Спивак. — Если человек пришел хотя бы с одной каплей, грех его гнать с пожара.
— Но он же сам лавку поджег!
— Так говорил реб Нафтали!
— Придуривается мерзавец!
— Это Арон…
— Какой еще Арон?
— Которого Фрадкин вместо своего Зелика сдал!
— Нашелся заступник!
— Ша! Ша! — снова рявкнул Спивак. — Пусть он подойдет. Расступитесь!
Толпа расступилась, и пришелец с ермолкой на сдвинутых ладонях шагнул к сгоревшей лавке.
Нафтали Спивак, расхаживавший вокруг своей груды, не сводил с него глаз и машинально, беспамятливо приговаривал:
— Ой, я умру со смеху!..
Неведомо откуда, видно, с соседнего двора, через канаву на пепелище забрела коза с козленочком. Она трясла бородой, поворачивала мудрую материнскую голову, назидательно мекала, а козленок, легкий, прыгучий как мячик пялился на мир своими простодушными счастливыми глазами и все ему вокруг нравилось: и люди, и пепел, и небо, и конечно же, мать с седой бородой и сморщенным выменем.
Понравился ему и звук, короткий, трескучий, как хворост, но облачка порохового дыма, повисшего гусиным пером в воздухе, козленок не увидел.
Когда пришелец поднял его на руки, козленок был мертв.
Только глаза его были такими же простодушными и счастливыми, как прежде.
— Господи! — воскликнул корчмарь Ешуа и бросился домой.
Коза-мать ничего не поняла, тыкалась мудрой головой в пепел, пощипывала травку и изредка поглядывала на своего козленочка, парившего на чужих руках в небе. Для коз небо начинается с бедра человеческого.
Между первым и вторым звуком был крохотный и скорбный промежуток.
Пришелец подпрыгнул, словно взмыл ввысь, согнулся, прижал козленка к простреленному животу и, не выпуская белый ворсистый кожушок из рук, грохнулся на землю рядом с оброненной ермолкой.
— Убили!..
— Не может быть!..
— Кто стрелял?
— Откуда?
Толпа хлынула к нему, и вместе со всеми, сбросив перекинутые через плечо башмаки, пятьдесят лет безрадостной и беспросветной жизни, ковенский тракт, чужие свадьбы и свои могилы, бежал ночной сторож Рахмиэл, и в целом мире не было таких здоровых, таких крепких, таких быстрых ног, как у него, даже у лани… даже у шакала…
— Арон! Арон!
Кто-то, оттерев Рахмиэла, наклонился над пришельцем, приложил к дорожному балахону ухо и, давясь неверной искупительной радостью, прошептал:
— Жив! Кажется, жив!
— Жив! — загромыхала толпа.
— Жив!
Кровь, обагрившая балахон чужака, запятнавшая белую шерсть козленка, была не та кровь, которую она, толпа, только что, полчаса назад, два выстрела назад, жаждала, обезумев от собственной низости.
Никто не отважился разъединить их: пришельца и козленка.
— В корчму, — сказал кто-то. — Она ближе всего… В корчму, пока он кровью не истек.
— Наденьте ему на голову ермолку, — сказал погорелец Хаим Спивак.
Рахмиэл поднял ее с земли, влажную от речной или родниковой воды, пришелец открыл глаза, и тогда, в этот первый или последний миг, откуда-то из небытия, из беспредельной его тоски или любви, из старой, стершейся по краям ермолки вытекла речка, в которой полоскала белье его красивая высокогрудая мать, шевелила плавниками счастливая рыба и, как в зеркале, уцелевшем на пожаре, отражалось все. Только без огня и крови, без гари и копоти, с облаками и козлятами, с люлькой и с лестницей на голубятню, как в небо. И текла эта речка по его лицу и по шерсти козленка, смывая с них кровавые пятна, а с лица и шерсти водопадом падала вниз, на разоренный двор некогда могущественных братьев Спиваков, на пепел, на единственную улицу забытого богом местечка, а с улицы струилась дальше и дальше — по всему уезду, по всему Северо-Западному краю, по всей черте оседлости, по всем городам и столицам, по всей земле, унося все беды и распри, возвращая каждому то, что у него отняли или он потерял…
Вот, отдуваясь, плывет его сын Исроэл, негодник, вот машут руками его сестры и братья, погибшие на погроме, вот на лодке пробирается по ней домой пасынок Рахмиэла рекрут Арон, вот выныривает из воды, как из петли, жена корчмаря Ешуа Хава, а жена рабби Ури Рахель переправляется на пароме на другой счастливый берег, вот…
Вода вдруг сменила окраску: из зеленой стала оранжевой, а из оранжевой — багрово-красной, словно глаза залило помидорным соком. Но речка все еще текла, не зеленая, багровая, и в ее багровости все смутней и неразличимей проступал профиль его красивой, высокогрудой матери, и рыба шевелила не плавниками, а малиновыми жабрами.
Зеваки повалили в корчму.
Во дворе остались только двое: Нафтали Спивак и коза.
Нафтали описывал ястребиные круги вокруг своей груды и что-то объяснял козе.
Но коза не слушала. Она озиралась по сторонам, искала своего козленочка и возмущенно мекала.
— Ты еще совсем молодая, — утешил ее Нафтали. — Родишь еще одного козленочка… А вот мы с братом… вторую лавку не родим… все, что нам остается, это умирать со смеху!..
Морта совсем сбилась с ног. Чего только она не делала, чтобы пришелец очнулся: прикладывала к ране листья подорожника и тысячелистника, разодрала свежую, хрустевшую, как сахар, простыню, не постеснялась на людях снять с чужака задубевшие, бог весть когда стиранные штаны и обвязать залитый кровью живот.
— Жена его ждет, — сказал Рахмиэл, и голос его, как комариный писк, просверлил каторжную тишину.
— Скоро, скоро, — пробурчал Ешуа. Как ему ни хотелось избавиться от пришельца, он делал вид, будто взволнован, по-отечески озабочен, даже предложил перенести раненого из корчмы в дом, к нему в спальню, но Хаим Спивак посоветовал не перетаскивать чужака без дела, пока не удастся остановить обильное, как у бабы, кровотечение.
— Ну как? — спросил корчмарь у Морты.
Морта села на край лавки, где лежал пришелец, взяла его руку, долго держала в своей, подула на нее губами и, словно выдирая самой себе зуб, сказала:
— Застыл!..
— Честь его памяти! — промурлыкал Ешуа. — Бог свидетель, мы сделали все, что могли.
Все подавленно молчали.
— Честь его памяти! — снова возвестил корчмарь и обратился к Рахмиэлу: — Где хоронить будем?
— Жена решит, — ответил Рахмиэл, прижимая к животу колотушку, словно у него самого вот-вот хлынет кровь.
Вошел прыщавый Семен, обвел всех взглядом, увидел покойника, скрюченного, жалкого, белую простыню в крупных кляксах крови, добрел до него, заглянул в мертвые глаза, сгорбился и по-вдовьи внятно и безутешно произнес:
— Бедняга!.. Упал с лестницы… Разбился насмерть. Бедняга!.. Выше крыши лестниц нет… ни для праведника, ни для грешника… никогда!..
Не было в его словах ни злорадства, ни скрытой издевки, ни раскаяния, а только не свойственная ему неизбывная, чрезмерная и ненарочитая печаль, хлеставшая, как кровь из раны, и никаким подорожником, никаким тысячелистником нельзя было ее остановить.
— Отец! — сказал прыщавый Семен. — Можно я булавку сниму?
— Какую булавку?
— С ермолки.
— Зачем тебе чужая булавка? Что, у нас булавок нет? Попроси у Морты — она тебе дюжину сыщет!
— Прошу тебя!
Они старались не глядеть друг на друга.
— Снимай! Ему она больше не понадобится.
— Спасибо, отец, спасибо…
Он подошел к мертвому, снял булавку, пристегнул к своей ермолке, и слезы оросили его бороду.
— Спасибо, — повторил прыщавый Семен, и от его ласковости и послушания все оторопели. — И Ошеровой вдове заплатить не забудьте… Голде…
— За что? — остолбенел Ешуа.
— За козленочка… жалко козленочка, — прошептал прыщавый Семен, нагнулся, поднял с пола мертвого козленка и принялся качать его, как младенца:
— Баю, баюшки, баю.
Песню козлику спою!..
— Идите домой! Идите! — выталкивал зевак из корчмы Ешуа. — Без вас… справимся!.. Морта, запрягай гнедую… Семен… сынок!.. Положи козленка и помоги дяде Хаиму перенести к нам с пожарища пожитки..
— Страшно… страшно одному без козленочка, — сказал прыщавый Семен и, бормоча себе под нос не то песню, не то заклинание, поплелся к двери. На пороге он обернулся и, вытаращив печальные, почти безумные глаза на Морту, сказал: — Ты искала ружье… Оно в хлеву… под стрехой… в попону завернуто…