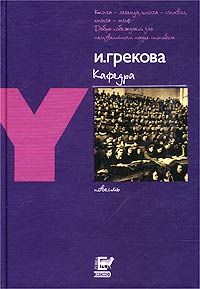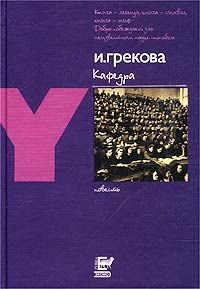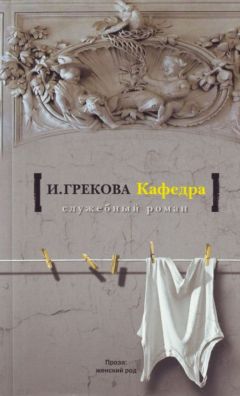Несколько дней он был в опасности, но в конце концов выкарабкался, выжил. Чего мне стоили эти несколько дней! Я металась, как собака без хозяина, только что не подвывала.
Когда ему стало лучше, я навестила его в больнице. Как больной тяжелый и привилегированный, он лежал в отдельной палате. У изголовья стоял кислородный баллон. Кислород, символ жизни, всегда стоит радом со смертью (ничего нет страшнее кислородных подушек, темно-защитных, туго надутых, с черными трубками и нагубниками). В палате было много цветов, вероятно от его женщин. Я смотрела на длинный костистый череп Валентина, глубоко ушедший в подушку, и мне было страшно: точно так он будет выглядеть на смертном одре. Он был не похож на себя главным образом своей отделенностью от всего. Этот чужой человек разлепил спекшиеся губы и сказал:
— Родная моя. Хорошо, что пришла. Я тут без тебя стосковался.
Какой-то словарь — не его. Я положила лицо на его руку, неподвижно лежавшую ладонью вверх на одеяле. Он чуть-чуть сжал пальцы, и мое лицо оказалось в его горсти. Его сильная продолговатая рука была теперь влажна и слаба. Я поцеловала его ладонь.
— Молодец, что не умер.
— Старался для тебя.
Счастье, что он не умер. Мне кажется, его смерти я бы не вынесла. Хотя человек выносит многое.
Постепенно он начал поправляться, месяца через два выписался из больницы. Бросил курить, бросил пить, полысел. Волосы его, всегда редкие, теперь отступили, словно отодвинутые на задний план.
Побывав на краю смерти, Валентин сделался другим человеком. Когда стал выходить на улицу, в первый же день пришел ко мне и остался ночевать. Это была первая ночь, которую он провел со мной.
— Наша первая брачная ночь, — сказал он. Сколько раз за все эти годы я мечтала о такой ночи! И вот он был со мной целую ночь, и все это было не то, не так. Как бы это выразить? Он был со мной рядом, но не вместе. Он был рядом, но я ничего не чувствовала. Он? Он. Ну и что? Это меня даже испугало. «Опомнись, это же он», — говорила я себе. Он заметил.
— Нина, ты здесь?
— Да, я здесь.
— Мне показалось, что тебя нет.
— Тебе показалось.
Наутро он ушел. Я не покормила его завтраком (боялась Сайкина). В тот же день он уехал в санаторий. Вернулся загоревший, пополневший, даже с каким-то намеком на брюшко (всегда был худ и жилист). Начал работать, но без прежнего летящего одушевления. Стал уравновешен, осторожен, оглядчив. Совсем не пил. О красавице и умнице что-то не было слышно. Часто (раза два-три в неделю) приходил ко мне ночевать, к великой досаде Сайкина, который вел себя пристойно, но неприязни не скрывал.
Димка и Иван — те, напротив, были без ума от дяди Вали. Какие-то он им складывал бумажные кораблики, из-за которых они потом люто дрались, подсчитывая, у кого сколько и каких именно. Вот дурачье! Большие мальчики, школьники, они пока не подают признаков вхождения в разум.
Однажды утром Валентин, надевая носки, сказал неожиданно:
— Нина, послушай, а тебе не кажется, что нам пора собирать детей?
Сердце у меня замерло. Собирать детей? Это могло значить только одно: жить вместе. Может быть, пожениться? Не важно. Жить вместе. Собрать детей — моих двоих, и его одну и еще одного — общего…
Я медлила с ответом. Как-то это было неожиданно и болезненно. И он медлил с ответом, поставив голую ступню на ковер. Его ступню — белую, сухую, сильную я, кажется, видела впервые и глядела на нее с какой-то неприязнью. Что-то хозяйское было в этом властном постанове…
Я представила себе его дочку Ирину — теперь уже почти взрослую, с крупными, капризными, пушком обметанными губами. Мысленно поставила ее рядом с Сайкиным, мальчишками… Нет. Ничего не получалось. И дело даже не в детях. Я не могла представить себе самого Валентина — рядом, всегда…
— Я не тороплю тебя. — Он натянул второй носок. Что-то прежнее детски лукавое сверкнуло в его лице; я как бы разглядывала его давний кинокадр. — У тебя будет время обдумать. Я еду на съемки месяца на три-четыре, а ты пока на досуге обдумай.
— А Александра Федоровна? — спросила я.
— Тут все благополучно. Пока я лежал в больнице, она нашла себе другого. Главное, он будет ее снимать.
— А красавица и умница?
— Давно не существуют. Нужна мне по-настоящему только ты.
Валентин подошел, положил руки мне на плечи, затянул в глаза — все как полагается по романам.
— Нина, ты меня любишь?
— Да, — ответила я правдиво.
— Надолго ли?
— Пока навсегда.
— Все ясно.
Через несколько дней он уехал на съемки. Зашел попрощаться. Выглядел он из рук вон плохо.
— Разумно ли тебе ехать? Ты еще слаб после болезни.
— Ничего со мной не сделается. А сделается — туда мне и дорога. Битая карта. А ты все-таки без меня подумай…
Уехал, а меня оставил размышлять. Выходить замуж? Собирать детей? Боже мой, мне не хотелось. Пусть лучше как было: он с дочерью у себя, я с сыновьями у себя…
Как раз тут произошло еще одно событие. Однажды вечером, придя из института, я застала у себя в комнате Димку. Он был в своей полосатой пижаме, из которой давно и самым жалким образом вырос, но не хотел расстаться и даже в стирку отдавал неохотно («Каторжник, одуревший от дурной пищи», — говорит Сайкин, видя его в этой пижаме).
— Почему не в постели? — спросила я грозно, краткостью и интонацией подражая Александру Григорьевичу.
— Мама, мне нужно сообщить тебе нечто необыкновенное.
Кажется, это фраза из Чапека. Димка последнее время читает непомерно много и весь дымится цитатами. Тоже мне домашний Лева Маркин!
— Что же такое необыкновенное ты хочешь мне сообщить?
— Может быть, это подло с моей стороны — выступать в роли доносчика, но я все-таки выступлю. Александр Григорьевич влюбился.
— В кого?
— В какую-то женщину или девочку. Он сказал ей сегодня по телефону «любимая». Потом велел нам с Иваном ложиться спать, а сам укатил с ней куда-то, судя по телефонному разговору — в кино.
Меня всегда поражает книжность и сформированность Димкиной речи. Профессор!
— Слушай, дорогой, иди-ка ты спать и выкинь из головы эти глупости.
Димка зарыдал.
— Глупости! Нашла глупости! А если Александр Григорьевич женится, кто нам будет варить обед?
— Ну я буду.
— Да!! Разве ты умеешь так варить свекольник, как он?
— Научусь и сварю. Подумаешь, искусство! — сказала я нигилистически.
Димка зарыдал еще пуще.
— И вообще! Дело не в свекольнике! Разве ты нам можешь его заменить! Мальчикам нужно мужское влияние.
Я обняла его за худую спинку.
— Ну-ну, маленький, не огорчайся! Может, он еще не женится.
— Ты думаешь? — с проблеском горькой надежды вскричал Димка.
— Вполне возможно. Не каждая любовь кончается женитьбой.
У Димки текло из носа, я его вытерла своим платком. Он был очень доволен и спросил:
— Французские?
Я не сразу поняла, что это он о духах.
— Наши, — ответила я.
— Тоже приличная продукция.
В общем, он успокоился, и я отвела его в мальчишатник. Иван спал вальяжно, в моей пижаме (после больших огорчений ему это позволяется). Богатырская грудь вздымалась.
— Эй, Иван! — крикнул Димка.
Иван мгновенно проснулся. Обычно его разбудить трудно, хоть из пушек пали.
— Ну, как? — спросил он, протирая глаза.
— Александр Григорьевич, вполне возможно, не женится, — сказал Димка.
— Не женится? — подскочил Иван. — Вот это здорово! Тут они оба принялись скакать по Ивановой тахте и орать дурными голосами:
— Не женится, не женится, ура, ура, ура! Пружины так и стонали. Я пыталась прервать это радение строгим окриком — ничего не вышло. Тогда я подошла к буфету, вынула за уголки две конфеты «Мишка косолапый» и, держа их на весу, подошла к тахте. Прыжки и крики стали реже и постепенно прекратились совсем.
— Мама, это нам? — с робким восторгом спросил Иван.
— Вам, если утихомиритесь.
— Мы уже.
— Александр Григорьевич, — напомнил Димка, — не разрешает есть конфеты после чистки зубов.
— А мы ему не скажем.
За этот педагогический просчет я сразу назвала себя Песталоцци (именем великого педагога мы с Сайкиным перебрасываемся, когда уличаем друг друга в ошибках воспитания). Мальчики вдохновенно ухватились за конфеты, развернули их, тут же успели подраться из-за фантиков, но малой дракой. Успокоились, поедая конфеты.
— Я в этом «Мишке» больше всего ценю сухариную прокладку, — говорил Иван. — Мама, а он правда не женится?
— Думаю, что нет, — соврала я, потушила свет и ушла к себе.
Ох, если Сайкин и в самом деле женится, как же я их избалую…
Александр Григорьевич вернулся поздно, ко мне зайти не соизволил, лег спать. На другой день был мрачноват, молчалив. Я его ни о чем не спрашивала. Разговор состоялся на третий день.