Ознакомительная версия.
— Справа, — сказал Матье.
Гомес остановил на ней волчий взгляд и мгновенно стал серьезным. Он сказал:
— Красивая баба.
— Она актриса, — сказал Матье. — У нее дюжина пляжных пижам. Ее содержит промышленник из Лиона.
— Гм! — хмыкнул Гомес.
Она ответила на его взгляд и, вскользь улыбнувшись, отвернулась.
— Что ж, для вас вечер не будет потерян, — сказал Матье.
Гомес не ответил. Он положил руку на скатерть, Матье смотрел на его волосатые пальцы в кольцах, розовые в свете лампы. Итак, он здесь, голубой с розовыми руками, он вдыхает аромат блондинки, он завлекает ее взглядом. Он сражался. За его спиной — опаленные города, завихрения красной пыли, облезлые конские крупы, взрывы снарядов, не оставившие ни малейшего отблеска в его глазах. Он сражался; он снова будет сражаться, а здесь он видит те же белые скатерти, которые вижу я. Матье попытался увидеть сосны, площадку, женщину глазами Гомеса, этими глазами, опаленными пламенем войны; ему это на мгновение удалось, но тут же беспокойная и внезапная терпкость, пронзившая его, исчезла. Он сражался, он… он такой романтичный! «Я же не романтичен», — подумал Матье. «Нет, — сказала Одетта, — только два прибора, месье Матье не придет к ужину». Она подошла к открытому окну, она слышала музыку из «Провансаля», это было танго. Они слушали музыку; Матье думал: «Он проездом». Официант принес им суп. «Нет, — сказал Гомес, — не хочу супа». «Малютки» играли «Кошачье танго»; скрипка Франс выпрыгивала в полосу света и внезапно ныряла в тень, как летающая рыба. Франс улыбалась, полузакрыв глаза, она ныряла за скрипкой, смычок царапал, скрипка мяукала, Мод слышала, как у ее уха мяукает скрипка, она услышала кашель лысого господина, Пьер смотрел на нее, Гомес засмеялся, вид у него был недобрый.
— Танго, — сказал он, — танго! Если бы французы вздумали вот так играть танго в мадридском кафе…
— Их бы забросали печеными яблоками? — спросил Матье.
— Камнями! — сказал Гомес.
— Нас там не очень любят? — спросил Матье.
— Еще бы! — воскликнул Гомес.
Он толкнул дверь: «Баскский бар» был пуст. Однажды вечером Борис зашел туда, клюнув на название: Ваг basque — на слух оно («барбаск») было похоже на слово «бар-бак», что означает «тухлятина», и это вызывало у него смех. Потом оказалось, что бар был совершенно замечательный, и Борис приходил туда каждый вечер, пока Лола работала. Через открытые окна доносилась далекая музыка казино; однажды он даже подумал, что узнал голос Лолы, но это больше не повторилось.
— Здравствуйте, месье Борис, — сказал хозяин.
— Здравствуйте, — отозвался Борис. — Дайте мне белого рома.
Он чувствовал себя безмятежно. Он решил, что выпьет две порции белого рома, покуривая трубку; затем, ближе к одиннадцати, съест сандвич с колбасой. Около полуночи он пойдет за Лолой. Хозяин склонился над ним и наполнил его бокал.
— Марсельца нет? — спросил Борис.
— Нет, — сказал хозяин. — У него профессиональный банкет.
— А-а! Простите!
Марселец был агентом по сбыту корсетов, был также и другой по имени Шарлье, наборщик. Борис иногда играл с ними в белот, иногда они говорили о политике или о спорте или же сидели молча, кто у стойки, кто за столиком; время от времени Шарлье нарушал молчание и ронял: «Да! Да! Да! Это так», покачивая головой, и время проходило приятно.
— Сегодня мало людей, — сказал Борис. Хозяин пожал плечами.
— Все удирают. Обычно мы открыты до Праздника всех святых, — сказал он, возвращаясь к стойке. — Но если так будет продолжаться, я закрою первого октября и тоже смотаюсь.
Борис перестал пить и замер. Как бы то ни было, контракт Лолы заканчивался первого октября, они уже уедут. Но ему было неприятно думать, что «Баскский бар» закроется сразу после них. Казино тоже закроется, как и все отели, Биарриц опустеет. Это как перед смертью: если точно знаешь, что другие после тебя будут еще пить белый ром, принимать морские ванны, слушать джазовые мелодии, то бывает не так грустно; но если понимаешь, что после тебя все в одночасье умрут и человечество закроет свою лавочку, то неизбежно впадешь в отчаяние.
— Когда вы снова откроетесь? — спросил Борис, чтобы хоть отчасти успокоиться.
— Если будет война, — сказал хозяин, — мы не откроемся вообще.
Борис посчитал на пальцах: «двадцать шестое, двадцать седьмое, двадцать восьмое, двадцать девятое, тридцатое, я сюда приду еще пять раз, а потом все будет кончено; я больше никогда не вернусь в «Баскский бар». Это было забавно. Пять раз. Он еще пять раз будет пить за этим столиком белый ром, а потом начнется война, «Баскский бар» закроется, а в октябре тридцать девятого года Борис будет мобилизован. Свечеобразные лампы бросали из дубовых люстр янтарно-рыжий свет на столы. Борис подумал: «Никогда больше я не увижу такого света. Именно такого: рыжего на черном». Естественно, он увидит много другого, ночные взрывы над полем брани, говорят, это неплохо, но этот свет потухнет первого октября, и Борис его больше никогда не увидит. Он с уважением посмотрел на светлое пятно, расположившееся на столе, и подумал, что когда-то совершил ошибку. Он всегда относился к предметам, как к вилкам и ложкам, будто они бесконечно возобновимы: это было глубокое заблуждение; существует определенное число баров, кинотеатров, домов, городов и деревень, и в каждом из них определенный человек может побывать строго определенное число раз.
— Хотите, я включу радиоприемник? — предложил хозяин. — Это разгонит вашу скуку.
— Нет, спасибо, — отказался Борис. — И так хорошо.
В момент своей смерти в сорок втором году он позавтракает триста шестьдесят пять помножить на двадцать два — ровно восемь тысяч тридцать раз, с учетом кормления в грудном возрасте. И если предположить, что он ел омлет один раз из десяти, то он съест восемьсот три омлета. «Только восемьсот три омлета? — удивился он. — А, ней Есть еще и ужины, это составляет шестнадцать тысяч шестьдесят завтраков и ужинов, из которых тысяча шестьсот шесть — омлетов. Как бы то ни было, для любителя это не так много. «А кафе, — продолжал он. — Можно посчитать число заказов в кафе; предположим, что я хожу туда дважды в день и что я буду мобилизован через год, получается семьсот тридцать раз. Семьсот тридцать раз! Как это мало». Это все же произвело на него впечатление, но он был не особенно удивлен: он всегда знал, что умрет молодым. Он всегда говорил себе, что его убьет либо туберкулез, либо Лола. Но в глубине души он никогда не сомневался, что погибнет на войне. Он учился, готовил экзамен на степень бакалавра и свой лиценциат, но это было, скорее, времяпрепровождение, как у девушки, которая ходит на лекции в Сорбонну в ожидании замужества. «Забавно, — подумал он, — были времена, когда люди изучали право или проходили конкурс на замещение должности преподавателя философии, рассчитывая, что в сорок лет у них будет нотариальная контора, а в шестьдесят-пенсия. Что могло твориться у таких людей в голове? Люди, перед которыми были десять тысяч, пятнадцать тысяч вечеров в кафе, четыре тысячи омлетов, две тысячи ночей любви! И если они покидали место, которое им нравилось, они вполне могли сказать себе: «Мы сюда вернемся в следующем году или через десять лет». Они, должно быть, наделали глупостей, — сурово решил он. — Нельзя управлять своей жизнью с расстояния в сорок лет». Он же был скромен: у него были планы на два года, потом все будет кончено. Следует быть непритязательным. По Голубой реке медленно проплыла джонка, и Борис вдруг опечалился. Он никогда не поедет ни в Индию, ни в Китай, ни в Мехико, ни даже в Берлин, его жизнь была скромнее, чем он желал. Несколько месяцев в Англии, Лаоне, Биаррице, Париже — а сколько таких, что совершили кругосветное путешествие. Одна-единственная женщина. Совсем короткая жизнь; у нее уже был законченный вид, потому что заранее известно все, чего в ней никогда не будет. Нужно быть скромным. Он выпрямился, выпил глоток рома и подумал: «Так лучше — меньше шансов растратиться».
— Еще рома!
Филипп поднял голову и стал старательно рассматривать электрические лампочки. Напротив него над зеркалом пробили часы; он видел в зеркале свое лицо. Девять сорок пять, он подумал: «В десять часов!» и позвал официантку.
— Повторить.
Официантка ушла и вернулась с бутылкой коньяка и блюдцем. Она налила коньяку в рюмку Филиппа и положила блюдце на три других. Она насмешливо улыбалась, но Филипп трезво смотрел ей прямо в глаза; он уверенно взял рюмку и поднял ее, не пролив ни капли; потом отпил глоток и поставил рюмку, продолжая пристально смотреть на официантку.
— Сколько?
— Вы хотите расплатиться? — спросила она.
— Да, сейчас же.
— Что ж, двенадцать франков.
Он дал ей двенадцать франков и отослал ее жестом. Он подумал: «Все, я больше никому ничего не должен!» Он хохотнул, прикрывшись рукой. И еще раз подумал: «Никому!» Он увидел свое смеющееся лицо в зеркале и засмеялся еще пуще: при десятом ударе часов он встанет, отнимет свое изображение у зеркала, и начнется его мученичество. Сейчас ему было, скорее, весело, он рассматривал ситуацию по-дилетантски. Кафе было гостеприимным, это была «Капуя», скамейка была мягкой, как пуховый матрац, он погрузился в нее, из-за стойки доносились музыка и звон посуды, напоминавший ему колокольчики коров в Зелисберге. Он видел себя в зеркале, он мог бы и дальше сидеть здесь, смотреть на себя и слушать эту музыку целую вечность. В десять часов. Он встанет, возьмет руками свое изображение, вырвет его из зеркала, как бельмо из глаза. Он увидит
Ознакомительная версия.
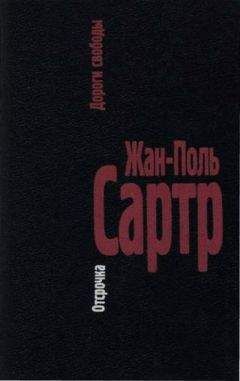

![Фабрис Колен - КОЛЕН Ф. По вашему желанию. Возмездие[]](https://cdn.my-library.info/books/75333/75333.jpg)

