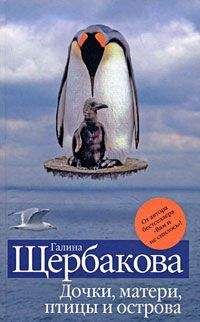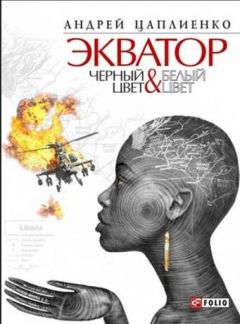— И, однако, ты не знаешь окончания! — воскликнул я, торжествуя. — Это последняя ставка, но не все карты открыты. И на картине они никогда не будут открыты. Никто не узнает никогда, кто выиграет и кто проиграет.
— И люди будут сидеть там и молчать, — сказал он с каким-то страхом. — И понтер будет наклоняться вперед, и румянец будет на лице у банкомета. Это — странная вещь! Всегда будут они там сидеть, всегда! И карты никогда не будут открыты.
— Это картина, — сказал я. — Это жизнь. Ты сам видел нечто подобное.
Он посмотрел на меня в раздумье и затем очень медленно протянул:
— Да, ты говоришь — здесь нет конца. Никто никогда не узнает конца. И, однако, это правда. Я видел это. Это — жизнь.
Долгое время он молча курил, обдумывал смысл и значение картин у белых людей и, проверяя их на жизненных фактах, несколько раз кивал головой и несколько раз кряхтел. Затем высыпал пепел из трубки, заботливо наполнил ее и после некоторого раздумья снова зажег.
— Я тоже видел в жизни много картин, — начал он, — не нарисованные картины, а виденные глазами. Я смотрел на них так же, как через окно на человека, пишущего письмо. Я видел много обрывков жизни, и все эти обрывки были без начала, без конца, без смысла.
Внезапно изменив свое положение, он уставился прямо на меня и стал внимательно разглядывать.
— Скажи, — сказал он, — ты — художник. Как нарисовал бы ты то, что я видел, картину без начала и с непонятным для меня концом? Северное сияние служило ей свечой и Аляска — рамкой.
— Это большое полотно, — заметил я.
Но он не обратил внимания на мои слова. Картина, казалось, была у него перед глазами.
— Много можно дать названий этой картине, — сказал он. — Но я назову ее «Путь Ложных Солнц», так как в ней на небе рядом с настоящим было два ложных солнца. Это было давно, лет семь назад, в конце 1897 года. Тогда я в первый раз увидел эту женщину. У меня была на озере Линдерманн очень хорошая лодка из Петерборо. Я приехал с Чилькутского прохода с двумя тысячами писем для Даусона. Тогда я перевозил почту. В это время все стремились в Клондайк. Много людей путешествовало на собаках. Многие рубили деревья и строили лодки. Скоро река должна была замерзнуть. Было много снега в воздухе, много снега на земле; на озере был лед, на реке — там, где водовороты, — тоже лед. С каждым днем было все больше и больше снега, больше льда. Через день, или через три дня, или через шесть дней можно было ожидать, что река станет. Тогда всем придется передвигаться пешком. А Даусон находился в ста милях: прогулка, значит, была большая. Лодка же плывет очень быстро. Поэтому все хотели ехать на лодке. Каждый обращался ко мне, говоря: «Чарлей, за двести долларов возьми меня в свою лодку», «Чарлей, я дам четыреста долларов». Я же говорил: «Нет!» Все время говорил: «Нет! Я перевожу почту».
Утром я достиг озера Линдерманн. Я шел всю ночь и очень устал. Я сварил завтрак, поел и затем спал три часа на берегу. Когда я проснулся, было десять часов. Падал снег. Дул ветер, очень сильный ветер. Рядом со мной, на снегу, сидит женщина. Белая женщина, молодая, очень красивая, может быть, двадцати лет, может быть — двадцати пяти. Она смотрит на меня. Я смотрю на нее. Она, вероятно, очень устала. Она не танцовщица. Я это хорошо вижу. Она — порядочная женщина и очень устала.
«Вы — Ситка Чарлей, — говорит она. Я встаю я свертываю одеяла, чтобы снег в них не попал. — Я еду в Даусон, — продолжает она. — Я еду в вашей лодке. Сколько?»
Я не хочу никого брать в свою лодку. Но мне не хочется сказать «нет». Поэтому я говорю: «Тысяча долларов!» Я говорю это в шутку, чтобы женщина не могла со мной поехать. Это лучше, чем сказать «нет». Она смотрит на меня пристально. Затем спрашивает: «Когда вы едете?» Я говорю ей. Тогда она заявляет, что даст мне тысячу долларов.
Что я могу сказать? Я не хочу брать эту женщину, но я ведь сказал, что она может ехать за тысячу долларов. Я удивлен. Может быть, она тоже шутит? Поэтому я говорю: «Покажите мне тысячу долларов». И тогда эта женщина — эта молодая женщина, совсем одинокая на тропе золотоискателей — вынимает тысячу долларов в зеленых бумажках. Я смотрю на деньги, смотрю на нее. Я говорю: «Нет, моя лодка очень маленькая. В ней нет места для багажа». Она смеется. Она говорит: «Я опытная путешественница. Вот мой багаж!» Она толкает ногой в снег маленький узел. В нем две шубы, зашитые в парусину, и внутри несколько платьев. Я поднимаю поклажу. Она весит, может быть, тридцать пять фунтов. Я очень удивлен. Она берет ее из моих рук и говорит: «Давайте отправляться!» Она несет узел в лодку. Что я могу сказать? Я кладу одеяла в лодку. Мы отправляемся.
Вот так-то я впервые увидел эту женщину. Ветер был попутный. Я поднял маленький парус. Лодка шла очень быстро, летела, как птица, по большим волнам. Женщина очень боялась. «Для чего вы приехали в Клондайк, если боитесь?» — спрашиваю я. Она смеется резким смехом. Она все еще боится и к тому же очень устала. Я провожу лодку между порогами озера Беннет. Вода очень опасная, и женщина кричит от страха. Мы спускаемся по озеру Беннет. Ветер сильный — совсем буря. Много снега и льда. Но женщина очень устала, она засыпает.
В эту ночь мы разбиваем стоянку у Мыса Ветров. Женщина сидит у огня и ужинает. Я смотрю на нее. Она красива. Она причесывается. У нее много волос коричневого цвета; иногда они делаются золотыми, как огонь костра. Когда она поворачивает голову, они вспыхивают, как пламя. Глаза ее большие и карие, иногда темные, как свеча за занавеской, иногда твердые и блестящие, как расколотый лед, освещаемый солнцем. Когда она смеется — как бы мне это сказать, — я знаю, что в такой момент белому человеку, наверное, хочется ее поцеловать. Она никогда не делает черной работы. Ее руки мягки, как руки ребенка. Она вся мягкая, как маленький ребенок. Она не худая — она круглая, как ребенок; ее руки, ноги, мускулы круглы и мягки, как у ребенка. Ее талия тонкая, и когда она стоит, когда она ходит, — я не знаю, как это выразить, — на нее приятно смотреть. Я сказал бы, что она построена правильно, как хорошая лодка. Именно так. Когда она двигается — как будто хорошая лодка скользит по спокойной воде или прыгает по сердитым волнам с белыми хлопьями. Приятно на нее смотреть.
Почему она одна в Клондайке — одна, с такими большими деньгами? Я не знаю. На следующий день я спрашиваю ее. Она смеется и говорит: «Ситка Чарлей, это не твое дело. Я даю тебе тысячу долларов, чтобы привезти меня в Даусон. Это все, что тебя касается». День спустя я спрашиваю, как ее зовут. Она смеется: «Мое имя — Мэри Джонс». Я не знаю ее имени, но я хорошо знаю, что ее имя не Мэри Джонс.
Очень холодно в лодке, и она плохо себя чувствует из-за холода. Иногда ей хорошо, и она поет. Ее голос, как серебряный колокольчик, и я чувствую себя добрым, совсем таким, как тогда, когда иду в церковь в миссии Святого Креста. Когда она поет, я чувствую себя сильным и гребу, как дьявол. Затем она смеется и спрашивает: «Чарлей, думаешь ли ты, что мы доедем до Даусона раньше, чем вода станет?» Иногда она сидит в лодке и думает о чем-то далеком и ее глаза становятся пустыми. Она не видит ни Ситки Чарлея, ни льда, ни снега. Она — далеко. Она очень часто так задумывается. Иногда, когда она так думает, ее лицо делается нехорошим. Оно похоже на сердитое лицо, на лицо человека, когда он хочет убить другого.
Последний день до Даусона был очень труден. Уже на реке появился лед с берега. Я не мог грести. Лодка примерзла ко льду. Нельзя было выйти на берег. Было очень опасно. Мы все время шли вниз по Юкону среди льдов. Ночью был большой шум ото льда. Затем лед остановился, лодка остановилась, все остановилось. «Сойдем на берег», — говорит женщина. Но я говорю: «Лучше подождать». Скоро все опять понеслось вниз по течению. Много снега. Я не вижу. В одиннадцать часов ночи опять все стало. В час ночи снова все понеслось. В три часа снова все стало. Лодку выбрасывает словно скорлупу, но под ней лед, и она не тонет. Я слышу вой собак. Мы ждем. Мы спим. Мало-помалу наступает утро. Нет больше снега. Все стало, но мы в Даусоне. Лодка остановилась как раз в Даусоне. Ситка Чарлей приехал с двумя тысячами писем, больше никто приехать не мог. Река стала.
Женщина наняла хижину на горе, и целую неделю я ее не видал. Затем, однажды, она приходит ко мне. «Чарлей, — говорит она. — Хочешь для меня поработать? Ты будешь вести собак, устраивать стоянки, ездить со мной». Я отвечаю, что зарабатываю довольно, перевозя письма. Она говорит: «Чарлей, я дам тебе больше денег». Я объясняю ей, что на приисках чернорабочий получает пятнадцать долларов в день. Она говорит: «Это четыреста пятьдесят в месяц». А я говорю: «Ситка Чарлей — не чернорабочий». Тогда она говорит: «Я понимаю, Чарлей. Я дам тебе семьсот пятьдесят долларов в месяц». Это хорошая цена, и я соглашаюсь для нее работать. Я покупаю для нее собак и сани. Мы едем вверх по Клондайку, по Бонанце и Эльдорадо; переходим к Индейской реке, к Серной Бухте, в Доминиону; возвращаемся к Золотому Дну и к Золотому Изобилию, и затем назад, в Даусон. Все время она что-то ищет, а я не знаю, чего. «Что вы ищете? — спрашиваю я. Она смеется. — Вы ищете золото?» — спрашиваю я. Она смеется и говорит: «Это не твое дело, Чарлей!» После этого я никогда больше не спрашиваю.