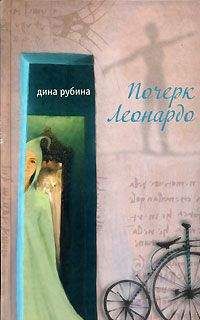Ознакомительная версия.
Анна молчала, опустив веки. Боль выгрызала в зеркалах каверны особо тонкими, инквизиторскими сверлами…
Женевьева заговорила, шумно вдыхая, перебивая саму себя резкой жестикуляцией:
– Ты!.. Ты много лет была для меня!.. Но я живой человек, понимаешь, живой, может быть, жалкий, даже преступный, как говорят мои братья… но я тоже хочу тепла! – Ее беспомощные руки будто пытались остановить поток слов, и бессильно падали на стол, и снова взлетали к самому лицу. Умнейшие талантливые руки, более значительные, чем маленькое, с острым профилем лицо нелепой птицы. – Я живая! Ты ничего не могла мне… то есть, прости, я не то хотела, мы подруги, да… но и ты должна меня понять… И это очень эгоистично, если ты!.. Может, тебя волнует – в бытовом смысле?.. Тогда не беспокойся, твоя комната всегда останется…
Принесли счет. Анна вложила купюры между плоских кожаных створок, насыпала поверх монеты чаевых. Поднялась, сняла со спинки стула и надела свою кожаную «косуху», повязала на шею бандану…
Женевьева сидела за столом с несчастным лицом, уже сама себя проклиная за то, что наговорила столько лишнего.
Анна склонилась и, обеими руками опершись о ее худенькие плечи, поцеловала взлохмаченную, как хохолок попугая, макушку. Проговорила:
– Да, комната… Комната – это большое удобство. Вышла на улицу и еще минуты две по привычке осматривала мотоцикл. Потом села, надела шлем, проверяя – пальцы сами собой бегали по застежкам, – все ли надежно.
Боль плескалась внутри глаз, шевелилась во лбу, накатывала в виски бесконечным прибоем…
Даже через окно видно было, как подавлена Женевьева.
Ее одинокая, чуть ссутуленная фигурка за столом оставалась неподвижна и – Анна убрала подножку и тронулась с места – через мгновение унеслась вбок и за спину вместе с кафе, бензоколонкой, вместе с богемным забавным районом Плато, уволакивая за собою весь цирковой, церковный город Монреаль.
* * *
– Нет, детка, дай я сам поведу… В этом городе особо чокнутые развязки, и полностью отсутствует дорожная разметка. А ты, как обычно, рванешь, снося деревья по обочинам. Знаешь, есть гениальный здешний путеводитель, разделенный на главки: «Как делать покупки в Бостоне», «Как посещать рестораны в Бостоне»… Так вот, раздел «Как водить машину в Бостоне» содержит единственную фразу: «В Бостоне лучше не водить»…
– Расскажи о Мятлицком, – попросила Анна.
– Я писал тебе: у Мятлицкого горе. Пропал его Страдивари. Причем замечательный Страдивари.
– Ну, само собой, – отозвалась она.
– Нет, не само собой! – возразил Сеня. Он встретил ее утром в аэропорту, уговорил не брать мотоцикл и в связи с этим (ненавидел ее мотоциклы, идиотский байкерский прикид – кожаную куртку, и шлем, и кошмарные перчатки) – пребывал в отличном расположении духа.
– Отнюдь не само собой! За свою жизнь тот настрогал порядка двух тысяч инструментов. И неудачные не уничтожал, не переделывал, а оставлял, какими вышли. Кроме того, никогда не знаешь – принадлежит инструмент авторству самого Мастера или вышел из рук учеников.
– Вот те на… – рассеянно заметила Анна. Но Сеня знал, что каждое его слово мгновенно откладывается на какие-то непостижимые для него полочки, откуда и достается по первому зову в любое время, в полной сохранности, включая интонацию, с которой было произнесено.
– Лучшие скрипки – это Гварнери, – продолжал он. – Тот за свою жизнь сделал их немного, и каждая на вес даже не золота, а бриллиантов… Видишь, что вытворяет этот идиот? Он даже не показывает, что намерен повернуть! Говорю тебе, это полный беспредел. Почти как в России. Да, прости. Страдивари Мятлицкого. Он как раз был замечательным, и вот его украли.
– Каким образом?
– Увели скрипку из артистической. Там две смежные комнаты, и из второй есть дверь в коридор. Пока Профессор выслушивал комплименты после концерта, инструмент просто вынесли. Детка… – Он виновато глянул на нее. – Прости, что потревожил. Но я подумал, вдруг тебе удастся…
– Увидим, – оборвала она. – И смотри на дорогу. Расскажи еще о нем. Ты к нему привязан.
– Да, – сказал Сеня. – Знаешь, он мне дорог. Я ведь закоренелый и вечный сирота. А он кое в чем напоминает деда. Какой-то естественной, врожденной значительностью… Это трудно объяснить… Я тебе и писал, и рассказывал. Родился Мятлицкий в Варшаве, но в детстве жил в России и хорошо говорит по-русски, даже настаивает, чтобы я с ним говорил по-русски: «тренировать мышцу». С ума сойти! Человеку девяносто три года! Вот на таких людях держится мир… «Тренировать мышцу», да… Так вот, в середине двадцатых шестнадцатилетний Анджей Мятлицкий поехал в Германию и поступил в класс знаменитого Карла Флеша. И поскольку уже тогда был изрядным виртуозом, очень скоро маэстро назначил его своим ассистентом. Во всяком случае, когда к Флешу однажды явилась маленькая девочка, восьмилетняя Ида Хенделл – а Флеш в свой класс детей не брал, – Мятлицкий, сжалившись, стал с ней заниматься сам… Она выступает до сих пор, скрывая возраст, всюду появляется со своим пудельком, который путается у всех под ногами и по вздорности характера может сравниться только с хозяйкой. Мятлицкий – единственный, кто помнит, сколько ей лет…
…Минут пятнадцать они ехали благочинными тишайшими улицами. Судя по могучим платанам и липам, район этот был старым и респектабельным уже лет сто назад. От дороги поднимался безупречный ворс зеленых косогоров и при каждом – роскошная усадьба. Каждый особняк на свой лад – с витражными вставками в окнах, с резными колоннами, с просторными деревянными террасами, на которых утренний ветерок пошевеливал пустые сети гамаков и легкие кресла-качалки. Оглушительный птичий гомон стоял здесь, совсем как в лесу.
Наконец, остановились у одного из домов: тот же гамак, та же качалка, на которой невозмутимая белка рассматривает какую-то добычу в цепких лапках.
– Тишина… – сказал Сеня, оглядываясь и захлопывая дверцу. – Мы приехали минут на десять раньше. Может, профессор еще не готов? Ну, пойдем…
– А это удобно?
– Пошли, я здесь привычен, как приходящая домработница… Однажды выступал неподалеку, не смог завести свой тарантас, дошел сюда пешком, довольно искусно проник в дом – было уже поздно, не хотел будить старика, – улегся на софе в гостиной и отлично переночевал. А утром меня невозмутимо покормили.
Шуганули белку, поднялись по деревянным ступеням, которые не мешало бы заново покрасить. Сеня толкнул дверь – она оказалась незапертой, – и они вошли в небольшой холл, заставленный очень старой потертой мебелью. Рогатая круглая вешалка была точно такой, какие в Аннином детстве стояли в приемной любого киевского учреждения.
В широком проеме распахнутой на обе створки двери видна была часть просторной гостиной с камином, заставленной резными и инкрустированными столиками, креслами, секретерами, козетками, застланной множеством разностильных и разномастных ковров и ковриков и по стенам увешанной картинами, рисунками и фотографиями. На стиль здесь плевали, и правильно делали.
– Профессор, ау! – крикнул Сеня. – Анджей Владиславыч!
Никто не отозвался, хотя слышно было, как где-то шумит вода.
– Неудобно, – сказала Анна. – И как это дверь открыта…
– Ну, в этом районе может быть открыта даже черепная коробка – никто ничего не украдет.
– А как же Гварнери? Он с ним моется?
Сеня расхохотался, хотя Анна почти не шутила. Он, бывало, так странно воспринимал многие ее вопросы – неизвестно чему улыбался, даже хохотал.
– Дай кое-что покажу, – сказал Сеня, приобнял ее за плечи и стал водить вдоль стен, то и дело натыкаясь на столики и секретеры, чуть не опрокидывая с них канделябры, шкатулки, серебряные кубки. Ему хотелось показать Анне множество фотографий, на которых Мятлицкий был запечатлен с таким количеством знаменитостей, что рябило в глазах.
Старые – коричневатые, зеленоватые – и новые, цветные: портретные, постановочные, случайные… Мимоходом сделанные на лестницах и в фойе концертных залов, с оркестром на сцене и в артистических комнатах, среди букетов. Летние, беспечно щелкнутые фото на кораблях – в шезлонгах и с сигарой в зубах; за рулем авто столь музейного вида – еще с клаксоном, – что не верилось глазам; в ресторанах и барах, за столиками на террасах парижских, мадридских, лондонских кафе; в холлах помпезных отелей, среди золоченного высокомерия огромных зеркал, в барочных креслах с львиноголовыми ручками, в студиях звукозаписи… И на трапах допотопных самолетов, и даже у открытого люка вертолета, уже готовый внутрь нырнуть, элегантный, в длинном сером пальто и мягкой фетровой шляпе, стоял, пригнувшись, с футляром в руке, виртуоз Анджей Мятлицкий…
– Девяносто три года, – заметил Сеня. – Было время запечатлеться…
Послышались медленные шаги, и на лестнице показались неторопливо сходящие ноги в домашних тапочках и пижамных брюках. Появился халат, свободно схваченный на животе пояском… майка под халатом… нарисовался профессор Мятлицкий целиком.
Ознакомительная версия.