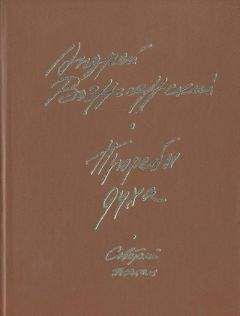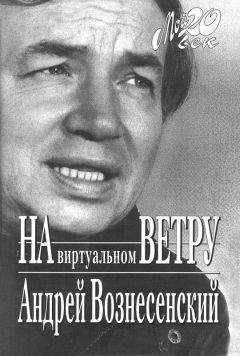Если мы поднимем руку в небо, то наше тело представится как цепь отношений Кромка биополя, ладонь, собственно рука, грудь до пупка и ноги — эти части растут в отношении золотого сечения по направлению к земле.
Наш глаз инстинктивно ищет соотношения с размерами Земли. Не случайно, например, купол римского Пантеона представляет одну миллионную длины земной окружности. Человек ощущает себя частью общего. Поэтому пропорции Пантеона кажутся нам красивыми. Понятие, чувство красоты — неизъяснимое выражение связи с сутью. Конечно, зодчий Пантеона не бегал по земле, укладывая миллион раз размеры купола, но он случайно коснулся некоего мирового закона.
Земля тянется к небу. Но небо тянется к Земле. Так задуман человек. Поэтому пропорция нашего тела и растут в золотом сечении по направлению к земле. Земля — наша бесконечность. Человек осознает себя частью общего, вечного.
Второй магической точкой нашей архитектуры был другой Иван — Иван Леонидов, зодчий современных решений. В отличие от К. Мельникова или Бархина ему ничего из своих проектов не удалось осуществить, но его идеи двигали и одухотворяли архитектурный процесс. Он был как бы зодчим для зодчих, Хлебниковым архитектуры.
Жил он высоко, в знаменитом конструктивистском доме по проекту Гинзбурга, доме-корабле, где впервые были разработаны двухэтажные квартиры. Мне довелось консультировать у него свой дипломный проект. Проект моей строительной выставки представлял собой конструктивную спираль и зал с вантовым перекрытием, что не вязалось с ампирным и неоренесеансным стилем тех лет. Чтобы быть эстетически свободнее, я перешел для диплома с жилищно-общественного факультета на промышленный, к Мовчану. Нас было таких трое на курсе — Дима Айрапетов и Стасик Белов искали новых решений. Белов и привел меня к Леонидову.
Мастер был негромоздок ростом, но суров. Быт квартиры выдавал тяготы существования — он перебивался заработками, оформляя выставки.
Хмуро помолчав, он предложил невообразимое по тем временам решение выставки. Он нарисовал некое подобие ящерицы или питона с заглотанными кроликом и козленком, где на километровом пространстве объемы павильонов свободно переливались один в другой. Все было перекрыто одной эластичной пленкой. Пространство ползло, отдуваясь, то надувая, то втягивая живот. Это была архитектура «без архитектуры», без архитектурщины, нежесткое, свободное решение, аматериальная материя.
Сейчас проявляется интересное течение в молодой архитектуре — я бы назвал его поэтической архитектурой. Это поиски, на первый взгляд не имеющие практического смысла, но без них творчество не движется вперед. Например, безвременно ушедший молодой архитектор Петренко мечтал перекрыть площадь, как крышей, прозрачным плавательным бассейном, чтобы зеленые тени воды и цветные блики купальщиков, увеличенные прожекторами, фантастическими тенями озаряли асфальт, толпу и бегущие автомобили.
«Советская архитектура» объявила конкурс на проекты-фантазии, возвращая к традициям Пиранези и нашего Чернихова.
Подобные поиски всегда были и у поэтов. Поэзия со своей стороны искала родства с пластическими искусствами.
С детства меня поразили строки оды Тредьяковского «Великая Екатерина О…». Так и видишь портрет — как Венеру перед зеркалом — императрицу перед овальным зерцалом.
В Кривоарбатском переулке меня всегда волнует странный особняк под номером 10. Волшебная тяга присутствует в нем.
Два туманных цилиндра полуутоплены друг в друга. Будто двое влюбленных стоят обнявшись во дворе, заслоненные от мира многоэтажными громадами. Она обнимает его со спины, положив голову на его плечо. Они, оцепенело прижавшись, рассматривают прохожих.
Это архитектурное стихотворение из двух слившихся строф. Над ним, как и над всякими стихами, печатным шрифтом стоит имя автора: «Константин Мельников, архитектор».
Изо всех зодчих он один, наверное, поэт в чистом виде. Он создал это стихотворение и, как поэт, жил в нем.
В плане дом составляют два переплетенных венчальных кольца, два «О», ну, прямо эмблема свадебного такси. Это всенародное объяснение автора в любви своей красавице, Анне Гавриловне, пожизненной супруге создателя.
В год моего окончания института ему клонилось к семидесяти. На склоне лет он сидел в своей раковине, в поэтичном особняке, худой и отрешенный, как на троне, на стуле с высокой резной спинкой, покрытой королевской накидкой с вензелем «К», вышитым Ее руками, сидел в бедственной нищете, самодержец сокровищ духа, сидел в нижней зале, увешанной драгоценными Ее портретами, писанными его рукою. Как он любил ее! Как он обожал касаться ее черт — глаз, пухлых губ, шеи — углем, маслом, сангиной!
Белая вязаная шапочка на темени его напоминала академическую, но многим его современникам она казалась нашлепкой на затылке циркача, когда тот держит на голове шест с тяжеленными акробатами. Они считали его трюкачом, но он был поэтом.
В те годы он сделал последнюю отчаянную попытку после долгой отлучки вновь войти в русло архитектурного процесса.
Собеседника поражало в его речи обилие слов «я», «мне», «мое», — эти же местоимения отличают речь поэтов — Бальмонта, Блока, Есенина, Северянина. «Творчество там, где можно сказать — это мое» — под этим его изречением мог бы подписаться Маяковский.
Его громоздкие стихотворения «Дом культуры им. Русакова», «Гараж Интуриста» можно узнать без подписи, как и любые вещи Мартынова или Ходасевича.
И не случайно особняк его жизни стоит на пушкинской тропе. «Гений — парадоксов друг». Его дом внутренне близок ампирным особнякам Арбата куда более, чем соседствующие безликие доходные многоэтажки. Это не только родство малых форм. Какая-то теплота, уютное чудо чувствуется за скорлупой серой штукатурки мельниковского особняка так же, как и под белыми с желтым скорлупками ампира. Может быть, их роднит то, что они душевно деревянные и кирпичные, лишь оштукатурены снаружи.
Один турист, приняв кривоарбатский шедевр за бетонный, возмущался тем, что тот якобы не гармонирует с пушкинской тропой. Как будто только ампир может соседствовать с ампиром! Однако сам посетитель подъехал к тропе не в карете, а в «Волге» и не переодевался в «панталоны, фрак, жилет». Талантливый особняк — в котором, кстати, нет ни капли бетона — куда ближе к Пушкину, чем бездарные многоэтажки, не оскорбившие вкус туриста. Так в антологии русской поэзии рядом с «Чудным мгновеньем» соседствует «конструктивистская» лирика Маяковского и Хлебникова.
Пушкин близок нашему поэту. Зодчий сам рассказывал, что, проектируя саркофаг в Мавзолее, он вдохновился прозрачной пушкинской строфой о хрустальном гробе. Им была создана модель кристалла, который сам своей диагональной тяжестью обходился без металлического обрамления. Долго пришлось мастеру с вооруженным сопровождающим объезжать Москву эпохи разрухи, чтобы выбрать среди витрин подходящее зеркальное стекло для саркофага.
Нехватка материалов рождала дерзкие решения. Многие фантазии Мельникова исходили из трудностей быта, строительного дефицита. Так и стены кривоарбатского дома он сложил в виде ромбовидной сотовой решетки. Чтобы сэкономить кирпич, мастер оставлял ромбовидные отверстия. Тридцать восемь из них стали окнами. Кстати, форма окон взята из монастырских бойниц. Так нехватка кирпича родила дерзкое конструктивное решение и образ пушкинского замка.
Зайдем в дом его жизни. Гений много оббивался об углы — не потому ли свой дом он построил круглым? А может, это воспоминание о кирпичных башнях замка Петровско-Разумовского, возле которого прошло его детство?
Родился Константин Степанович в крестьянской семье, как и другой поэт, прозванный тоже хулиганом. Соломенная Сторожка, в которой он родился, именовалась так по церковке, крытой соломой, которая стояла рядом. Там он мальцом пел в хоре. Потом учился иконописи.
Обязанностью его детства в семье было накачивать воду, наполнять ведра и поить коров и лошадей. Не от цинковых ли ведер осталась у него навеки любовь к цилиндрическим формам, в том числе и малым кривоарбатским цилиндрам?
Меценат и известный инженер В. Чаплин заметил пацана и дал ему блестящее художественное и архитектурное образование. Мальцу из Соломенной Сторожки суждено было изменить ход мировой архитектуры.
Крестьянская смекалка и опять нужда подсказали гениальное ребристое дощатое перекрытие особняка, покрытое настилом. И по сей день сын зодчего, художник, боготворя естественность дерева, не покрывает пола лаком, сам моет полы и по-крестьянски выскребает ножом половицы.
Сложенная Мельниковым печь не только шедевр современной скульптуры, но и напоминание о стуже войны. Немецкая бомба, разбившая Вахтанговский театр, выбила взрывной волной в доме стекла и рамы и разрушила спальню — его «сонную сонату».