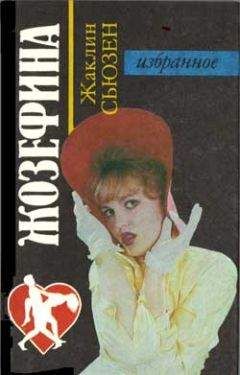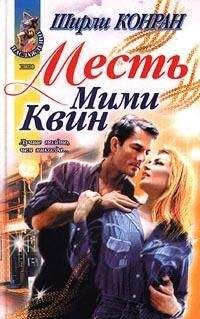— В то время как ты оказываешь ему помощь на дому, всего-навсего.
— Я не переношу, когда кто-то несчастен, всего-навсего.
— Особенно, если это тот, кого ты любишь!
— Совершенно верно, особенно если это те, кого я люблю. Я больше не люблю Жан-Люка по-настоящему, но мы не стали совсем чужими. То, что я делаю для него, ты мог бы сделать для Изабель, между прочим. Тебе бы не пришлось заставлять себя, я уверена.
Здесь я даю сбить себя с толку. Мы говорим обо всем, кроме главного. Я ревнив, это правда, как ни крути. Я плохо переношу мысль о том, что женщина, какой бы она ни была и где бы ни находилась, позволяет обладать собой другому мужчине, это вызывает у меня отвращение как что-то непристойное, кощунственное. А когда речь идет о женщине, которую я люблю смертельно… Жан-Люк с Лизон. Запах Жан-Люка, смешанный с запахом Лизон. Член Жан-Люка, проникающий в Лизон. Жан-Люк, извергающий свое семя в сокровенную глубину Лизон. Лизон в оргазме, бормочущая те же слова, свои слова, наши слова… Взрыв убийственной ярости сводит мне кишки. Мне плохо. Я хочу умереть. Я хочу убивать.
Тем лучше. Я сейчас использую эту святую ярость. Она послужит мне для того, чтобы все разрушить. Она станет танком, который все снесет и принесет освобождение Лизон. Vivalamuerte!
В первый раз проницательность Лизон ей изменила. Для нее все свелось к безобидному и довольно обычному случаю мужской ревности. Она не поняла, что речь шла совсем о другом.
Когда я сказал ей:
— Лизон, нам нужно серьезно поговорить…
Она прервала меня:
— Какой у тебя торжественный вид! Ты и вправду придаешь этому такое значение? Послушай, все совсем просто. Жан-Люк… мне наплевать на Жан-Люка. Я не знала, что причиняю тебе такую боль. Теперь знаю. Если совсем честно, то в глубине души я чувствовала, что это огорчит тебя, поэтому ничего тебе не сказала. Но я не думала, что все так серьезно. Ты не хочешь, чтобы я виделась с ним? Я его больше не увижу. Обещаю. Я люблю тебя. Поцелуй меня. Займись со мной любовью, любовь моя.
Я так и сделал. Что не облегчило предстоящую задачу. А потом, какое мне понадобилось мужество, чтобы осмелиться сказать — ее голова на моей правой руке, как на подушке, моя левая ладонь, округленная раковиной, прикрывает ее влажное лоно, — чтобы сказать:
— Лизон, я причиняю тебе зло.
Она промычала из глубины счастливой дремоты:
— Умм?
Тогда я выложил один за другим аргументы, приведенные Элоди, которые казались мне правильными: ее юность, мой возраст, ее беспечность, мой чудовищный эгоизм, ее будущее, моя мания на грани патологии, естественный импульс, который рано или поздно приведет ее к мальчикам ее возраста, чему доказательством случай с Жан-Люком, свое отвращение к женитьбе и вообще к тому, что может ограничить мою свободу, я перечислил все эти очевидные истины, не назвав лишь разрушительную ярость, бешенство избалованного ребенка, стремящегося разломать все свои игрушки в апофеозе смехотворного отчаяния.
Я не смел посмотреть на нее. Я говорил с потолком. Она молчала. Я подумал, что она задремала. Взглянул на нее искоса. Она тоже смотрела в потолок. Дала мне высказать все. Когда я закончил, остановила взгляд на мне. И спокойно спросила:
— Ты хочешь бросить меня?
Я даже подпрыгнул от неожиданности:
— Бросить тебя! О нет!
— Тогда в чем проблема?
Главное, не потерять ведущей нити:
— Речь идет не о том, чего хочу я, а о том зле, которое я тебе причиняю, о той дурацкой жизни, в которую тебя вовлекаю.
— Уж не испытываешь ли ты небольшого приступа интеллектуального мазохизма? Ты говорил о будущем, скоро начнешь говорить о долге, о совести и, почему бы и нет, о маленьком Иисусе и о нашем спасении? Уж не он ли тебе явился?
Она берет мою руку, снимает со своего лона, нежно сжимает в руках. Она смотрит мне в глаза:
— Слушай внимательно, Эмманюэль. Любят друг друга двое. Чтобы бросить друг друга, тоже нужны двое. А я тебя не бросаю. Я принадлежу тебе навсегда. Вот так.
Мои глаза не могут выдержать ее взгляда. Опустив голову, я говорю:
— Я конченый человек, Лизон.
Она берет мою голову обеими руками, насильно поворачивает лицом к себе.
— О-ла-ла! Да у нас тяжелый приступ депрессии! Вот почему ты разговариваешь словами из мыльной оперы! Вот из-за чего стал затворником, отключил телефон, перестал бриться? Ты устроил себе персональный апокалипсис?
Она садится, поджав под себя ноги, кладет мою голову на свои прекрасные колени и баюкает меня. Переносить все это становится все труднее…
Я больше не знаю, что со мной происходит. Я продолжаю нестись на той же скорости, в том же направлении, совсем как выпущенный из пушки снаряд, который может лететь только по прямой. Идиот. Все же стараюсь подвести некий итог. Посмотрим. Я жертвую Лизон не ради того, чтобы угодить Элоди. Я сам убежден в необходимости такого шага. Для Лизон. То, что ревность Элоди лежит в основе этой теории, не меняет дела. Я должен быть ответственным за двоих, быть сильным за двоих. Но, боже мой, как же это тяжело! Мне больно вдвойне от моей собственной боли и от той боли, которую собираюсь причинить ей. Которую ей уже причиняю… Потому что она начинает чуять в моем приступе тоски нечто большее, чем просто депрессию. По какой-то еле ощутимой напряженности мышц я догадываюсь, что у нее появляется предчувствие неминуемой беды и что оно растет, и что вместе с ним ее охватывает страх.
Проходит долгое, долгое время. В тишине зреет непоправимое. Руки Лизон все еще на мне, но они неподвижны, бесчувственны. Когда наконец она заговорила, ее голос неузнаваем, именно такой голос хорошие писатели иногда называют "бледным".
— Ты говоришь это всерьез, правда?
Это не вопрос. Она констатирует. Мне нечего ответить. Я думаю, что сейчас умру.
— Ты уже не здесь.
Я должен держаться. Нельзя схватить ее в объятия, осыпать ее поцелуями и сказать ей: "Любовь моя, моя любовь, это ерунда, глупость, это уже прошло, я дурак, я люблю тебя, люблю!" Нельзя. Нельзя, чтобы она услышала, как колотится мое сердце. Я недвижен как камень. Мертв.
— Ты ничего не хочешь сказать мне?
Держаться…
— Значит,все эти глупости — правда?
Держаться…
— Ты дашь мне уйти?
Держаться…
Она берет мою голову обеими руками, снимает ее со своих колен, осторожно кладет на грязное покрывало, встает с дивана, встряхивает свою юбочку, как будто хочет избавиться от невидимых крошек, спокойно идет к двери, в последний раз я вижу, как ее бедра колеблются в ритм шагам, она открывает дверь, закрывает ее за собой. Она ушла.
Передо мной вся жизнь, чтобы называть себя дураком.
Что я сделал? Боже, что же я сделал? Я поступил как надо, согласен. Я не дрогнул. Лизон разочаровалась. Она будет от этого страдать, без сомнения. Какое-то время. А потом она побежит к своему Жан-Люку. Может, она уже бежит к нему… О боже! Она бежит к нему, конечно! Она бежит к Жан-Люку! О, какая боль! Но этого надо было ожидать, мой милый. Ты знал, что будет больно. Ты приготовился к этому. Пожинай плоды содеянного. Утешайся тем, что сделал то, что необходимо было сделать. Что хотя бы раз ты нашел в себе силы победить свой эгоизм, подчинить зверя, ногами разбить ему морду. Быть может, хотя бы это смягчит твое отчаяние.
Смягчит? Да ничего подобного! Меня не утешает моральная красота моего поступка. Я страшно несчастен… Лизон! Вернись, Лизон! Не оставляй меня! Я говорил глупости, я был безумен, я люблю тебя, ты любишь меня, только это имеет значение, на остальное наплевать. Будущее? Какое будущее? Будущего нет. Есть только ты, Лизон, и я, подыхающий от любви к тебе.
Я бушую, я мечусь по своей берлоге, я бьюсь головой о стены буквально, как бык в ярости, с размаху, пока боль не заглушит моей боли внутри, но этого надолго не хватает, страх сильнее, чем шишки, он толкает меня вниз по лестнице, я оказываюсь на тротуаре под веселым солнышком, которому на все наплевать, и вот я бегу по асфальту, потерянный, небритый, похожий на сумасшедшего маньяка, ищущего, кого бы зарезать.
Я иду. Куда же я иду? Не знаю. Я даже не думаю об этом. Какой-то обрывок сознания, неизвестно в каком темном закоулке моих извилин должно быть это знал, потому что я прихожу в себя перед домом Элоди. Я удивлен. Почему Элоди? О, да потому, что именно она причина всего, потому что это ее вина, потому что я хочу ей сказать, что дело сделано, жертва принесена, хочу излить на нее все мое бешенство, хочу к ней прижаться, хочу отхлестать ее по щекам, хочу выплакаться между ее грудями, хочу, чтобы она восхищалась мной и утешала меня, хочу убедиться, что не сделал глупость века, хочу заняться с ней любовью, чтобы доказать себе, что моя жертва того стоила, и более всего хочу, чтобы женщина убаюкала меня, сказала мне: "Ну… ну, успокойся…" — и дала бы мне грудь, и раскрыла мне бедра и лоно, и взяла бы меня за руку и ввела бы в себя, и слушала бы, как я мешаю любовные рыдания и любовный хрип, и шептала бы мне те глупые слова, какие шепчут страдающему ребенку.