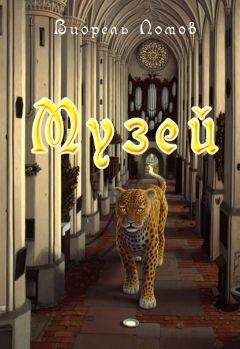«Поэт! Как ты можешь?! Прав был Пушкин… пока божественный глагол его не коснется… он всех ничтожней в мире… А она… если даже я стану Председателем Совета Министров, не удивится. Женщины не понимают истинных подвигов. Их надо поразить каким-нибудь дурацким восхождением… пожаром… спасением на водах… Кстати, что бы такое придумать?»
Уже в синих сумерках на тридцать седьмую секцию снова явился Туровский, и Хрустов обрадовался другу:
— Слушай, — Лева показал на почерневшие к ночи сопки. — Скоро ведь Первомай… а флажки на скалах не сменены.
— Ну и что?
— Когда ты был начштаба, ты так не говорил.
— Меня Васильев возвращает в штаб.
— Вот как! Я очень рад.
— Но дело не в этом, — процедил Туровский. — Еще успеется. Потом.
— Потом таять начнет… камни посыплются… скалолазы не захотят. В этом я вижу недооценку наглядной агитации. Дай-ка я сам слажу?
— А ты когда-нибудь лазил? — хмуро оглядел его Валерий. — Опять сознание потеряешь… разобьешься к чертовой матери. — Он вздохнул, был темен лицом. И почему-то показался Хрустову больным.
— Ха-ха-а! Я на Кавказе на пик Победы лазил!
— А разве он на Кавказе? Не на Памире? — усмехнулся Туровский.
— Это второй… — усмехнулся ответно Хрустов. — Он еще выше. Открыли недавно. Был закрыт облаками. Да ладно придуриваться! Валер, дашь ботиночки с триконями?
Туровский ничего не ответил, он мрачно ходил по блоку, разглядывая сделанную плотниками работу при косом свете с башенных кранов. Олю Снегиреву вспоминает? Или жалеет, что с Аней поссорился? Или в Марину теперь влюбился черноглазый хитрец? Но если влюбился, то почему такой несчастный? Не до флагов ему.
Миновало несколько дней, блок начали бетонировать, в силу вошел график, и в первый же свой выходной день Хрустов с утра полез-таки на правобережную скалу вешать знамя. На ногах — ботинки с острыми триконями, за поясом — красная материя, крюки, в руке — ледоруб.
Внизу, у самого подножия скалы топтался на голубом снегу, запрокинув голову и сверкая белыми зубами, верный Серега Никонов. Объяснил, что постоит для страховки. Но если что случится, что он сможет сделать? Не поймает же на руки? Зыбкий еще мальчишка. Моложе Левы на целых три года!
В огромном котловане, похожем сверху на каменный Манхеттен, вспыхивали крохотные огненные точки электросварки, были слышны звоночки кранов. Бригада, должно быть, из блока смотрит вверх, на своего Хрустова, который, прижимаясь к каменной скале, карабкается к выступу, где трепещет на ветру побелевший от сырости и морозов флажок…
«Умру, но не свалюсь! — яростно шептал Хрустов себе под нос, забивая в диабаз и гранит стальные крюки, подтягиваясь, выпрямляясь на дрожащих ногах. — На этот раз — без поз-зора, только крас-сиво! Как нечто само собой разумеюще-е-е-еся!»
Сизокрасная зернистая порода ползла медленно вниз. Вот жухлая травинка, которая неизвестно как нашла себе тут пропитание… вот кустик с тонкими, очень крепкими, как капроновая леска, корешками… а вот глубокая трещина, в которую можно сунуть носок ноги — там, внутри, рыжая мертвая трава, скоро она зазеленеет. В голове вертелась песенка:
Исцелует… обнимет… убьет…
Самородки насыплет в карман…
Пролетит надо мной самолет
По старинному аэроплан.
Только что ему ветки тайги?
Только что и малина тайги?
Провезет он… руки твои.
Провезет он… губы твои…
Хрустов не ведал, что это так высоко. Что карабкаться придется долго. Что это страшная, изнуряющая работа. И что здесь такой рваный морозный ветер — как от поезда. Что коленки намокнут. Что рукавицы продерутся. Что пот защиплет глаза, как в бане. Что седые пульки вырастут на ресницах и в бороде…
Он уже не думал о том, смотрят на него снизу или нет, он время от времени отдыхал. «Надо было водки взять или термос с чаем». Он закуривал, грелся от огня сигаретки, складывая ладони возле лица. И резко пьянел и слабел от курева. И уже ругал себя последними словами, когда вдруг проклятый каменный выступ оказался рядом и Хрустов с трудом взлез, вскарабкался на него.
Бугор, казалось, медленно падал вместе с Хрустовым на котлован. Сердце больно разбарабанилось, руки дрожали…
(Дорогие марсиане и все прочие, кому захочется прочесть эти записи про грозную и сладостную зиму 1978–1979 года, когда Хрустову Л.Н. и его друзьям пришлось испытать много невзгод и в награду…
Не так.
Дорогие любые возможные читатели! Перечитал эти страницы и стало страшно: вы подумаете, что я более ничего и не видел — упивался прежде всего своими ощущениями… Нет же, я расскажу, расскажу! И про то, как со временем перестал понимать Валерия Туровского… как Серега Никонов быстро взрослел и становился скрытным… а Борис вскоре сорвался с гребенки плотины и упал в пролет, мимо башенного крана, — от него остался лишь мешок с костями… А Леха-пропеллер уехал домой хоронить брата и не вернулся — его забрали в армию, он же был там прописан… И нас на плотине осталось из старых друзей — Валера, Серега, я… ну и Алексей Бойцов, он теперь с нами тоже был в одной обойме. Могу сказать, что, судя по его пасмурной кошачьей морде, ему с Таней все-таки не фартило. И стыдно признать, что радуюсь, и все же признаюсь…
Итак, простите — еще немного о Вашем смиренном микро-Пимене, Хрустове.)
Лева сорвал с древка белую тряпку, привязал за углы красный новый шелк.
Это его подарк трудящимся Ю.С.Г. к Первому мая!
А теперь — надо срочно спускаться, уже темнеет.
Хрустов глянул вниз и чуть не улетел птичкой туда. Боже, как высоко! Неужели это он сюда вправду забрался? Или это сон, когда он утонул в Зинетате и ему мерещится? Нет, нет! Он тут! Вот склизкий камень под ногами. Вот моток бечевки на поясе.
Он охлестнул ее концом выступ — увы, сползает… надо обвязать, как столб… Смаргивая слезы о морозного ветра, тужился, пыхтел, наконец, получилось… завязал узел, попробовал на растяг — держит, и, зажмурившись, отталкиваясь от сумрачной стены, заскользил вниз.
Вдруг бечевка, как раскаленный прут, обожгла ладонь через дырки продранной варежки, и пальцы разжались — Хрустов полетел вниз, но успел вновь ухватиться за нее. Его крепко ударило, протащило коленями по скальным облокам, острым курумам, в глазах потемнело от боли. «Кажется, в кровь?..»
Медленно, медленно… вниз, вниз…
Надо вспомнить какое-нибудь длинное стихотворение. «Союз нерушимый республик свободных…» Нет. «В полдневный жар в долине Дагестана с свинцом в груди лежал недвижим я… Глубокая еще дымилась рана… по капле кровь сочилася моя…»
Господи, что это стукнуло в ноги снизу, содрогнув всё тело?! Неужели земля?! Да, это она. Качается. Ползет то вверх, то вниз, как лифт.
Но почему так больно в правой голени?
Ковыляя, как сошедший с лошади, Хрустов доплелся до вагончика первого участка, где лежала его сменная одежда. Ладонь — тоже правая — словно ножом порезана. Снял ватные брюки — на коленях засохли коричневые пятна, лиловеют синяки. Правая нога подламывается. «Неужто перелом?!»
Снял с гвоздя сумку с красным крестом, йода не оказалось, замотал бинтом колени и правую руку. Его мутило. И радости никакой уже не было…
Сел в автобус и увидел через сиденье от себя Бойцова.
— Ну как? — хрипло спросил Хрустов. — Там все нормально?
Алексей не ответил.
— Что же ты, фокусник, любимец богов, Маяковский наш доморощенный, бригадиру своему не отвечаешь? — криво улыбнулся Хрустов. — А я все-таки слазил. На скале трепещет красный флаг. Выкрашен моей кровью!
— Смотрю на тебя… — угрюмо отвечал Бойцов, — смотрю и думаю… болтун ты, Лёва. Хоть и бригадиром тебя поставили. Честную девушку с места поднял… за тридевять земель приехала… с матерью простилась… сватам отказала… из-за тебя! Она ведь там шелк облагораживала! Тебе не понять.
«Неужели у него с ней не получается? — вновь засветилась надежда у Хрустова. — Неужто она передо мной „кино“ гонит? Может, любит, а?»
— И я из-за тебя… судьбу поломал… Чтоб тебе песец язык откусил!
— Не матерись, — повеселел Хрустов, хоть и ныло избитое тело. — Я член Совета дружины стройки. Сейчас вот свистну, — он достал из кармана милицейский свисток с горошинкой, — и живо тебя в кутузку — и фиг ты в ближайшие полгода свою Ангару увидишь. И Таню… В-в-в! — В автобусе трясло, Хрустов, скуля, гладил больную ногу. — Если уж ругаться, то ближе к технике. Например, «аэродромомать».
Но местный поэт не понимал юмора. Он упрямо твердил, обернувшись со своего сиденья к Хрустову:
— Ночей не спит… плачет… по маме тоскует. Погоди, они тебе еще глаза выцарапают! И я добавлю!
«Кто они? С мамой? Мама приехала?!»