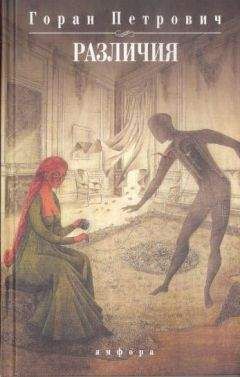— Как?! Вы уверены?! То есть, я имею в виду, вы твердо уверены, что это та самая «Фантазия»?.. — спросил молодой человек.
— Тсс... — послышалось из-под вуали старой дамы. — Тише... Слушайте, отдайтесь звукам... И все само станет вам ясно...
Арфа продолжала звучать. Елена и Адам то распахивали настежь, то лишь приоткрывали то одно, то другое, а то и сразу несколько окон музыкального салона, раздвигали или сдвигали гардины, ветер то струился беспрепятственно, то парусом вздувал занавески и таким образом виртуозно касался десятков струн стройного инструмента, свивая нежные композиции, а Наталия Димитриевич узнавала названия коротких произведений, объясняла транскрипции, комментировала технику исполнения и состав оркестра.
— Форе, «Эмпромти»... Словно только что слушала... «Арабеска» Дебюсси... Берлиоз... Пиерне... Милоевич... Бинички... А эта импровизация мне неизвестна... Надо бы ее записать... А то так и погибнет... — комментировала она отдельные произведения, судя по всему, безошибочно, хотя, как аплодируют, она забыла и после каждого исполнения приподнимала руки в черных нитяных перчатках, но ее ладони никак не могли найти друг друга, и вскоре она отказалась от этих попыток, на темной вуали появилось влажное пятно, должно быть, под ней она горько расплакалась.
Похоже, что музыка сломала Адама Лозанича. В воскресенье вечером явился заказчик и сел абзац за абзацем сравнивать, какую работу проделал молодой редактор. Требовавшихся и выполненных исправлений было гораздо больше, чем в предшествующие дни, это была и по-другому расставленная мебель в салоне, и ничем не оправданная новая стена, которая теперь непонятно зачем перегораживала столовую на два тесных помещения, и целый каталог личных вещей и одежды новых «владельцев», добавленных в шкафы, сундуки, комоды и ночные столики, и, кроме того, по всему тексту, от первых и до последних слов, где упоминался цвет фасада здания виллы, прилагательное «светло-темно-желтый» заменено на общепринятый «пепельно-серый». Исправлений было очень много, но молодой человек особенно гордился именно арфой, он еще раз открыл окно, чтобы доказать заказчику, что она может играть, и занавески от соприкосновения с впущенным ветром снова безудержно затрепетали, а стройный инструмент издал гармоничные звуки.
— Да кто вас просил тратить на это время?! Впредь строго следуйте нашим договоренностям. Делайте только то, что вам сказали. Здесь я все равно планировал нечто совершенно другое. Музыкальный салон нам не нужен. Завтра уберите арфу, делайте с ней все, что вам угодно, а кроме того, раз павильон наконец-то освободился, займитесь им... — холодно распорядился заказчик.
— Да... Разумеется... Я понял... — утвердительно кивал Адам, все больше склоняясь к реализации замысла, который не давал ему покоя целый день, а в голове его болезненно стучало, отдаваясь во лбу и затылке: «Завтра уберите арфу! Завтра уберите арфу!»
Поэтому в воскресенье вечером, когда встреча закончилась, он отправился за бумагой и долго блуждал по Белграду в поисках открытого магазина, дойдя так до самой Славии, где наконец такой и обнаружил. Он был шириной не больше входной двери и казался втиснутым между фасадами двух соседних зданий. И только по пути домой Адам вспомнил, что магазинчик назывался «Удачная покупка». Он тут же ринулся назад, но не смог найти ничего похожего. И если бы в руках у него не было всего несколько минут назад купленной общей тетради, если бы он явственно не помнил звяканья колокольчика на двери, внутреннего помещения, расширявшегося вглубь наподобие воронки, и пожилого продавца, словно удивленного его появлением, если бы перед глазами у него не стояло, как тот медленно потянулся к полке с разномастным товаром и вытащил именно эту тетрадь, стерев с ее обложки пыль, если бы он не обнаружил в кармане пару давно вышедших из обращения монет, полученных им в качестве сдачи, он мог бы согласиться с тем, что все это плод фантазии. Спросить было не у кого, редкие прохожие, казалось, и сами ищут эту давно исчезнувшую мелочную лавку.
Это только укрепило его решимость. Вопреки недвусмысленному требованию не делать во время работы никаких записей, он решил по ходу дела записать кое-что из встреченного им в многосмысленном романе Анастаса С. Браницы. Несмотря на опасность потерять щедро оплачиваемую работу. Несмотря ни на что. Спасти хотя бы арфу. Пусть он не знает нот, но можно хотя бы переписать названия произведений, которые он слушал со старой дамой и девушкой. Сохранить какие-то следы загадочным образом исчезнувших находок профессора Тиосавлевича, несчастных Стонов или рецептов кухарки Злаганы. Сохранить свидетельства истории Анастаса и немногие известные ему факты из жизни Наталии Димитриевич. И конечно же, написать о Елене. О ней особо. Например, описать прозрачность ее ночной рубашки. Пусть даже одной-единственной фразой.
Фраза могла бы звучать так: «В дверях несколько лучей света запуталось в Елениной ночной рубашке, сделав прозрачной ткань, скрывавшую силуэт ее длинных ног», — шептал он себе под нос, возвращаясь в свою мансарду.
Слишком уж много накопилось загадочных событий. Не мешает некоторые из них занести на бумагу. А потом сравнить. Чтобы понимать, что к чему. Да и всех деталей ему, конечно же, не упомнить. Вообще-то, ему лучше всего удавалось подготовиться к экзаменам тогда, когда, читая книги, он из каждой что-нибудь выписывал, иногда одно-единственное слово могло потом потянуть за собой в памяти целые страницы. Сейчас он чувствовал необходимость записать все, что с ним произошло. Или привиделось. И он, будь что будет, взялся за дело, для начала сунув купленную тетрадь за пояс своих изношенных джинсов и прикрыв выпущенной наружу рубашкой. Точнее говоря, он взялся за дело не сразу, а сперва погасил в комнате свет, придвинул стол к окну, положил переплетенную в сафьян книгу на колени и стал ждать, когда все заснут и повсюду установится ночь — и здесь, и там.
Дождь кончился, потом опять пошел, стрелки часов показывали десять, последние посетители нехотя покидали закусочную «Наше море», продавец сувениров перестал сколачивать рамки около одиннадцати, полчаса спустя какая-то пара совершенно несоразмерного возраста, поддерживая друг друга, попросила приюта в гостинице «Астория», ближе к полуночи улица Милована Миловановича, вниз от Балканской, потонула в тишине, теперь любые шаги можно было услышать издалека. Адам понадеялся, что и там, в романе, все успокоилось.
Хорошо еще, что он уже изучил извилистую дорожку к вилле и что над ней светил полный круг луны, потому что там уличное освещение было настолько слабым, что, даже сидя у окна, трудно было бы что-то понять. А тут, на свет, бивший из раскрытой книги, слетелись откуда-то надоедливые мошки, сад дышал сгустившимися темными красками, но многое было видно очень хорошо. Осторожно, стараясь ничем не выдать свое присутствие, не наступить на какую-нибудь скандальную ветку, не споткнуться о кротовью нору, не наткнуться на надменного павлина, который разгуливал здесь несколько дней назад, не вызвать шуршания белого гравия, которым была посыпана дельта дорожек французского парка, используя крик совы для маскировки каждого нового шага, молодой человек буквально прокрался к дому, обогнув его от главного входа, который оказался закрыт, до задней двери со двора.
Через все еще запотевшее окно кухни он увидел вспыхивавшие последними огоньками угли в плите и кухарку Златану, которая, согнувшись и прильнув щекой к сложенным на столе рукам, спала праведным сном в окружении бесчисленных мисок и груд овощей, время от времени что-то произнося, так же громко, как она переспрашивала и наяву, или сочно причмокивая и цокая языком, словно пробуя свои лакомства:
— Для постненькой долмы запарить листья блитвы, пока не станут мягкими! Так, такушки!
— Добавим в рисовую начинку по вкусу молотых грецких орехов и маленькую, малюсенькую щепотку перчика! Каждую долмушечку завернуть и в рядок положить!
— Как закипит, на каждом десятом «буль!» встряхнуть кастрюлю, чтоб не прилипло к донышку!
Конечно, она его услышать не могла, более того, сейчас он убедился в том, что Златана вообще никогда не выходила из своей кухни. Молодой человек открыл дверь и на цыпочках прошел мимо кухарки, а потом по узкому коридору проник в главный холл виллы. За спиной у него слышалось, как Златана корит кого-то во сне:
— Убери руки! Потерпи! Еще не готово! Нельзя!
Да, внутри здания почти ничего не видно, ему потребовалось время, чтобы глаза привыкли к темноте, чтобы он смог совместить очертания мебели и других вещей с тем, что запомнил из предыдущих чтений, с воспоминаниями о том, где что находилось. В те первые несколько мгновений он не двигался, опасаясь споткнуться обо что-нибудь, прислушивался, у него было такое ощущение что уши его увеличиваются в размере, ловят каждый звук, каждый шорох, издаваемый переставленной деревянной мебелью, которая словно хочет, чтобы ее вернули на прежнее место, каждый скрип рассохшегося паркета, каждое потрескивание глазури на вещицах из фарфора, каждый удар собственного сердца и даже шуршание настоящего времени, ссыпающегося на времена прошедшие... Да, кроме всего прочего, он чувствовал, что наверху не спал кто-то еще. Может, несчастное семейство с тенью, а может, Покимица или старая дама Наталия, а может, это Елена повторяла правила английского языка. Осторожно, пробуя ступеньку за ступенькой, Адам поднялся по лестнице. Наверху было несколько дверей. Трое, и все закрытые. Из-за одной слышалось тяжелое дыхание нескольких человек, там наверняка спали Стоны. Из-за второй не было слышно ничего, правда Покимица был человеком тихим, и часто его присутствие нельзя было доказать ничем другим, кроме неприятного чувства, что кто-то внимательно контролирует каждое твое движение. Разговор доносился из-за третьей двери, над порогом подрагивал лежащий стебелек света свечи, без труда можно было догадаться, какой голос принадлежит Наталии Димитриевич, а какой — Елене, ее компаньонке.