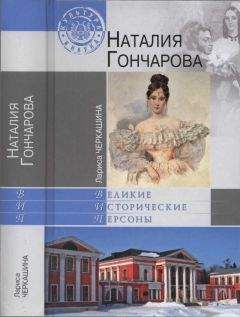Ознакомительная версия.
Я. Сева, как вы адаптировались к английской жизни, я вот, например, тут просто ничего не могу понять.
Сева. А кто вам сказал, что я адаптировался? Тот же оперный критик звонит мне третьего дня, он рассорился со своей подругой-англичанкой. «Старик, – говорит, – умоляю, найди мне любую женщину, женюсь на ком угодно. Ведомости не могу заполнить». Ведь каждое утро по почте приходят разные анкеты, и надо сообразить, что где писать. Жизнь здесь невероятно сложна на юридическом уровне, и среднему человеку нужно очень много знать. А русский с его безмерной верстой, с его неопределенным понятием времени, со словом, которое он дает, а потом берет обратно, выжить сам не может.
Уж как здесь ни обангличанился, как ни стал собранным, все же я без жены-англичанки часто бы оказывался полным котенком. Этот недостаток на бытово-юридическом уровне русскому человеку восполнить нечем. Здесь очень сложная структура общества, и нашими мозгами ее понять невозможно.
Я. А психологические стороны?
Сева. С моего флотского периода, когда я плавал за границу помощником капитана, у меня сложилось впечатление, что русскому человеку за границей жить не надо. Он будет всегда гражданином второго сорта потому, что теряет все свои языковые и культурные привычки и накопления, и восполнить все это невозможно. Это я и теперь говорю отсюда.
Я. Сева, а как привыкнуть к тому, что телефон платный, и вода, и отопление, что все время надо считать?
Сева. Я на это махнул рукой. Мы об этом не думаем. Я верю в метафизический принцип: пьющий воду – получает на воду, пьющий коньяк – получает на коньяк. Конечно, как я в России жил не по средствам, так я и здесь живу не по средствам, только в Москве я был должен друзьям, а здесь – банку.
Я. С кем вы общаетесь?
Сева. Масса приятелей, а друзей в нашем, русском, смысле нет. Друг у нас – это человек, к которому ты можешь прийти, чтобы пожаловаться, довериться, положиться. Здесь полагаться можно только на себя. Друг у друга здесь десятку не стреляют и даже сигарету. Люди, приходя в гости, занимаются чисто интеллектуальной стимуляцией друг друга.
Я. Сева, а на что вы живете?
Сева. Вообще-то я работаю как вол в тридцати областях. На Би-би-си, потом у нас с женой фирма, мы консультируем какие-то фильмы. Она – актриса, я – член профсоюза актеров, попадаю в какие-то их дела. Делаю адаптации сценариев. Люблю строить квартиры. Вместо спорта, а ведь это безумная идея – бежать, обливаясь потом, или лупить ракеткой по мячу, я люблю выйти с утра с рубанком и строгать там какую-нибудь ногу для стула. У меня нет художественного таланта, и поэтому я выражаю себя через строительство.
Меня, например, очень занимает, почему бетон, будучи жижей, застывая, становится камнем. Я даже собираюсь написать об этом книжку. Все, что здесь есть, я построил сам.
Я. Англичане любят сами работать в своих домах, это я знаю.
Сева. Да. Это мы привыкли к дармовому труду, к тому, что придет дядя Вася и сделает все за трешку или тетя Даша будет на вас всю жизнь ишачить за чечевичную похлебку. Здесь – права человека. За починенный кран с вас слупят сорок фунтов. Кстати, я ведь ушел из штата Би-би-си, чтобы иметь свободное время, и если со мной, не дай бог, что случится, то я буду точь-в-точь таким, каким был в бытность свою эстрадным музыкантом: нет концерта – нет ставки.
Я. Можно себе позволить работать только журналистом, как наши?
Сева. Трудно. Только если сидеть дома, как барсук. Но я не могу быть только журналистом. Мне неприятно, что я торгую своим происхождением. Что это за профессия – быть русским? Случись мне разругаться завтра с Би-би-си, кому я нужен? Я пытаюсь стать обыкновенным человеком, вот как столяр, плотник.
Я. Сева, а как насчет ностальгии?
Сева. Наша волна эмиграции уехала от совершенно невозможной жизни, мы уехали, чтобы никогда к этому не возвращаться. Ностальгия, конечно, есть, но это скорей тоска по друзьям, по своему учебному заведению. Очень бы хотелось попасть в мою школу в Таллине. Я ведь кончил школу в Эстонии, это еще одна из причин, по которой мне в эмиграции легче, чем другим. Я вырос в эмиграции, в Эстонии русскому жить тяжелее, чем в Англии. Эстонцы такие, очень уж саксы. В среде англичан проще, особенно в среде шотландцев. Они очень похожи на русских, они даже пьют, как архангельские. Я разделяю людей на две категории по тому, как они пьют: одни относятся к рассудочным расам – они выпили, им уже хватит, я, к сожалению, такой. А вот шотландцы, татары и архангельские – чем больше пьют, тем больше хочется. Пока не упали – пьют.
Я. Сева, спасут ли Россию от пьянства повсеместно введенные пабы?
Сева. Конечно. Англию же спасли. Дозволенное питье не привлекает. Так же раньше было с поездками за границу: как выехал, так и остался. А теперь приедет, посмотрит, понюхает и обратно. В Лондон последнее время приезжает масса народу, ни у кого не было особенного желания остаться. Я имею в виду яркую интеллигенцию; конечно, середняк-неудачник шизеет от любой витрины, ему кажется, что беды не в нем, а в стране. Но он здесь тоже никому не нужен.
Я. Как живет театральная интеллигенция в Лондоне?
Сева. В Англии около 30 000 актеров. Работу из них имеют примерно 10 000, остальные перебиваются. В театр попадают по жесткому конкурсу, труппы рождаются и распадаются на глазах. Уверенности в завтрашнем дне никакой, актер абсолютно бесправен. Конечно, у него развита профессиональная гибкость, нет чванства, но ведь и процент самоубийств в этой среде жуткий. Это принцип тот же, что и во всей капиталистической экономике.
Я. Я не верю, что психическая нестабильность может давать высокий профессионализм, а главное, что это можно оправдать с точки зрения нравственности. Кидать актера от режиссера к режиссеру – все равно что ребенку каждый день приводить новую няню.
Сева. Конечно, но ведь всякий национальный театр развивается в рамках национальной психологии. Вся русская культура, как и итальянская, семейно-психологическая. Как воспитание актеров, так и воспитание детей складывается здесь прямо противоположным образом. Нашего русского инфантилизма здесь нет, в восемнадцать лет человек уходит из дома, чтобы научиться на себя зарабатывать. Здесь четырнадцатилетний подросток вам подробно объяснит, почему он делает это, а не это. Он уже отвечает за собственные действия и собственное мировоззрение. Но зато и со стариками здесь никто не носится, здесь нет столь сентиментального отношения к родителям. Все это связано со старой колониальной психологией, когда ребенка с детства готовили к карьере в колонии. Видите, империи давно нет, а нация все еще носит форму.
Я. Вы считаете, что инфантилизм – первое определение нашего состояния умов и по сей день?
Сева. Нет. Все изменилось в СССР. Если поколение наших отцов было советским, наше поколение – антисоветским, то сегодня на арене появилось новое поколение – «асоветское». Оно советскую власть просто в упор не видит. Это поколение выросло в среде творческой молодежи, особенно в рок-музыке. Року я благодарен за то, что он, как жанр, как форма, дал возможность появиться поколению более свободному, чем мы. Я все время с чем-то боролся, а сегодня время начинать что-то строить. Раньше я был «врагом народа», «отщепенцем», у меня целая коробка вырезок из советских газет. На моих передачах масса людей в КГБ написала диссертации. Цитаты мои фигурировали как образчики подрывной работы в книгах всех советских обличителей. А теперь я же призываю начинать строить. И мне очень важно передать эстафету.
Я. Сева, по ту сторону вы были национальным героем, а здесь, на Би-би-си?
Сева. Ой, лучше об этом не вспоминать. Все свои хохмы я протаскивал контрабандой. У меня была очень жестокая редактура. Я ведь привез с собой весь свой гастрольный опыт, весь фольклор, от которого англичане падали в обморок. Я долго их приучал. Но, как гласит английская поговорка: «Начинающий со скандала кончает жизнь институтом». Я вырос на джазовых передачах из Америки, на абстрактном символе свободы. Эту идею раскрепощения я пытался двинуть в своих передачах на шаг дальше. Все мои приколы были направлены на одно: высвободить подсознание. Недоверие к нашей академической советской наукообразности, когда любая простая мысль высказывается профессионально-непонятным языком на двух страницах, то, чем и по сей день страдает наша критика, вызывает у меня жуткую злобу. Я пытался говорить со своими слушателями не простецким, а простым языком. И кажется, мне это удавалось, у меня пудов пять писем-исповедей.
Я. Сева, что вы переводите из литературных произведений?
Ознакомительная версия.