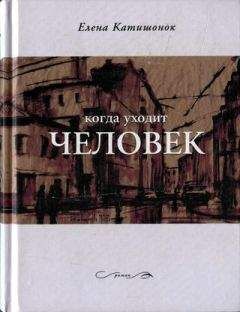Ознакомительная версия.
Ирма регулярно заходила в милицию осведомиться о муже. Наступил ноябрь — разгар зимы. Шубка с трудом застегивалась на выпирающем животе. Человек в форме глянул на иззябшую женщину и кивнул на стул, чего раньше ни разу не делал. Ирма села, а он листал бумаги на столе, поплевывая на пальцы. Наконец выдернул листок и, подняв глаза, переспросил на всякий случай:
— Строд, Бруно ГустАвович? — После чего кратко закончил: — Скончался.
Хорошо, что сидела: падать ближе.
Очнулась в сельской больничке не от нашатыря — от боли, которую ни с какой другой болью не спутать, а через несколько часов родила дочку, словно та услышала страшную весть и заторопилась на этот свет — еще одна девочка в демографической статистике!
Недоношенный «человеческий детеныш», причудливый плод на скользком черенке пуповины, крохотный и жалкий, с кулачками не больше ореха, всей своей хрупкой тяжестью лег на руки врача, она же фельдшерица и акушерка в одном лице, которая и влепила младенцу традиционный шлепок.
Девочка только что отделилась от матери и первым делом обрела клеенчатую бирку на ручонку, где химическим карандашом был обозначен ее вес, рост, время рождения и фамилия матери. Полгода назад ее отец, с фанерной биркой на ноге, накрылся деревянным бушлатом, что являлось эвфемизмом общей могилы, куда он был сброшен. Приходит ли человек в этот мир или покидает его, бирка неизбежно ему сопутствует…
Девочка была еще безымянной, а врача звали Мария Федоровна, и она была старше новорожденной на пятьдесят лет. Порфироносное имя заземлялось безопасной фамилией Косых, но в поселке, куда она попала в числе эвакуированных, ее звали Графиней за привычку то и дело приговаривать «господа хорошие». Графиня не графиня, но внешность ее вполне соответствовала имени — во всяком случае, прямоты стана и решительности у Марии Федоровны хватало. Прежде черные, а теперь пепельные от обильной седины волосы завязывала греческим узлом на затылке, голову держала высоко. Она приехала из Москвы с шестилетним внуком Алешей — замкнутым, неулыбчивым мальчиком. Местный фельдшер ушел на фронт, так что появление Марии Федоровны здесь оказалось как нельзя более кстати.
Квартирная хозяйка, у которой она поселилась, особенно не присматривалась к московской докторше; известно: деревенская работа от темна до темна. Присела вечером, как всегда, корову доить, а тут квартирантка подходит:
— Смотрите, красотища-то какая!
И смотрит на закатное небо, где гуси летят.
Вскинулась Архиповна от непривычных слов:
— А? Что?.. Где?! — подскочила на месте, опрокинув подойник, и несколько минут глядела в небо, но сколько ни силилась, ничего не увидела.
— Во чокнутая! — сказала в сердцах, хоть та стояла рядом и не сводила глаз с удаляющегося треугольника.
С легкой руки хозяйки у Графини появилось второе прозвище: Чокнутая. Архиповна предупредила дочку, Валентину, чтоб не смела разговоры разговаривать с квартиранткой, чокнутая она.
Как-то в воскресенье Валентина с Марией Федоровной собрались копать картошку. Шли берегом реки, чтобы сократить путь. На неровном обрыве дрожали светлые блики, и Мария Федоровна невольно залюбовалась.
— Давайте, Валюша, посидим. Посмотрите, диво какое!
Валентина, девка на выданье, удивилась: берег как берег. Знала, что в свое время с этого берега сбрасывали белогвардейцев, а более ничего примечательного за ним не водилось. То ли подействовал докторский статус, издавна вызывающий в деревне уважение, то ли ласковое имя «Валюша», вместе с уважительным «вы», — одним словом, Валентина присела на валун, а чтоб зря не сидеть, поведала, чем славен обрыв; напомнила про картошку.
— Посидим еще, — отозвалась квартирантка, — смотрите, какая тут красота!
Сидели, вглядываясь, — одна с восхищением, другая хмуро и старательно, — в реку, небо, обрывистый берег. Короток здесь осенний день; небо стало гаснуть, кто ж в потемках картошку копает.
Дома Валентина со злостью швырнула мешки в угол и на вопрос матери о картошке только рукой махнула:
— Верно ты сказала: чокнутая она. Сидели на берегу, смотрели красоту какую-то. Чего-то она на обрыве высматривала, откуда беляков сбрасывали.
Архиповна недоверчиво нахмурилась:
— А ты, дура, сидела смотрела?
— Так она ж… — и не договорила, не умея объяснить то, что и сама не понимала.
Поселок принял Марию Федоровну примерно так же, как Валентина: привычно-уважительно, но с поправкой на «чокнутость».
Лечила она хорошо, с немногочисленным персоналом обходилась справедливо, поэтому быстро завоевала авторитет. Никто из начальства не возражал, когда она потребовала еще одну санитарку в больницу и добилась, чтобы на работу взяли Ирму. Что ею двигало, неизвестно; одного взгляда на тонкие Ирмины руки хватало, чтобы понять: санитарка из нее никакая, однако все познается в сравнении, а сравнение — для Ирмы — было в пользу больницы.
Девочка родилась в ноябре, но была названа Майей — не потому, что мать к тому времени изрядно намаялась, а просто день рождения Бруно был в мае.
Ирма брала девочку с собой на работу. Когда Мария Федоровна оставалась на ночное дежурство, она тоже не уходила домой; детей укладывала спать в крохотном, но теплом чулане.
…Если все время молчать, то что-то сгорает внутри, сгорает или взрывается. Бывает, что помогают слезы. Во время родов Ирма не кричала, а только стонала; потом лежала на койке и плакала, плакала, а слезы не кончались. Она не слышала, как вошла Мария Федоровна, но услышала слово: «Деточка…» и почувствовала руку у себя на лбу. Не смогла больше молчать — и прорыдала хриплым шепотом самое страшное бремя, от которого нет способа разрешиться.
Ирма и Мария Федоровна сильно отличались друг от друга, и разделяло их тоже очень многое, не говоря о двадцатилетней разнице в возрасте, однако роднила и сближала непохожесть на других и понимание этой непохожести. Довольно скоро Ирма рассказала, как Бруно был арестован, каким неузнаваемым он вернулся и как рыдал в прихожей — не от боли, а оттого, что она видит его таким. Рассказала про страшную короткую ночь и про долгий мучительный поезд, и даже про жуткий картуз на голове сынишки, так ее поразивший.
Ничего не говорила про бывшую свою кукольную жизнь, про то, как они с Ларисой играли в светских дам — об этом даже вспоминать было стыдновато, особенно после того, как спустя несколько лет услышала рассказ Марии Федоровны, которой слезы давно перестали помогать. Повествование было коротким и ни разу не повторялось, однако Ирма запомнила его слово в слово, будто не услышала, а прочитала и выучила.
Я курсистка была, а он — председатель ревтрибунала. Тонкий, интеллигентный — такие встречались; вот и мне встретился, только ненадолго. Умер от солнечного удара, когда купался. Счастливая смерть; только представить, что его ожидало…
Скоро я замуж вышла, за морского офицера, и через год дочку родила; зато мужа потеряла. Гражданская война, господа хорошие… Одни умирали, другие голодали, болели — и тоже умирали.
В 33-м году я опять замуж вышла. Не за военного — за инженера. Умница редкий, а как меня любил! И сегодня любил бы, да Сталин у меня мужа отнял.
Всё, что мне судьба щедро давала, люди отнимали, всё и всегда.
Мария Федоровна тоже выплеснула из себя далеко не все, а только то, что пролилось из переполненной чаши человеческого терпения. В скобках — или на полях — осталась нерассказанная часть — осадок, твердеющий на дне чаши терпения. Там лежала горькая память о дочке, умершей в проклятую Гражданскую, о чем никому не нужно было знать. Как и о том, что Алеша приходился ей отнюдь не внуком, а родным племянником, сыном сестры, которую арестовали вместе с мужем. Мальчику был обеспечен детский дом соответствующего режима, если бы он не гостил у деда на даче. Сама Мария Федоровна разделила бы судьбу мужа, инженера и редкого умницы, но уберегла судьба: оба терпеть не могли формальностей и брак не регистрировали. Оказывается, человека может погубить — или спасти — бесконечно малая величина, случайность. Марию спасла девичья фамилия, которую она ни разу не меняла и потому уцелела, тем более что было зачем: Алеша.
Вначале их спас отъезд из Москвы, а потом война и поспешная эвакуация. Эвакуированный, как известно, что полоумный: сунет в узел сапожную щетку или хрустальную розетку для варенья, а документы забудет. Доктор Косых паспорт при себе имела, а внуку паспорт иметь не полагается, господа хорошие. Мальчик легко привык к дедовой фамилии, а если бабку звал, случалось, Машей, так это дело семейное.
Эта часть жизни — и рассказа — никому не была известна.
Время от времени доктора Косых вызывали в лагерь для консультации. Ей не только удалось узнать о судьбе Роберта, но и передать от Ирмы небольшой пакетик… свежесмолотого кофе.
Ознакомительная версия.