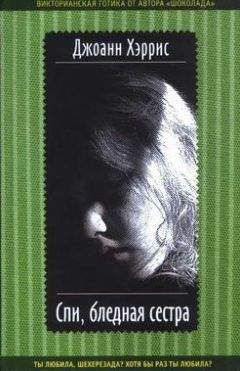– А-а-а-а?..
– Преподобный Блейкборо, из Оксфорда. Я известил вашего брата Уильяма. Он прислал преподобного.
Лишь тогда я обратил внимание на незаметного человечка с кротким детским лицом, сидящего в углу. Ответив на мой взгляд – он не боялся смотреть мне в глаза, – преподобный Блейкборо улыбнулся и встал; он был очень небольшого роста.
– Я возглавил приход, когда скончался ваш отец, – мягко сказал он. – Я очень тепло относился к преподобному Честеру и уверен, он бы хотел, чтобы я навестил вас, но до сего момента я и не знал, где вы живете.
– А-а-а… я…
– Ну-ну, вам не стоит утомляться, – уговаривал преподобный Блейкборо. – Доктор – и, конечно, ваша добрая миссис Гонт – все мне рассказали. Вам действительно необходим покой – ваша смерть не сможет вернуть вашу бедную жену.
Он посмотрел на меня с душераздирающим участием; я чувствовал, как рот мой распахивается в беззвучном смехе, а из правого глаза капают слезы – но по кому, я не знал. Преподобный Блейкборо подошел ближе и ласково обнял меня за плечи.
– Доктор считает, что вам нужен отдых, Генри, – сердечно произнес он. – И я с ним согласен. Перемена обстановки, деревенский воздух пойдут вам на пользу, вам не стоит оставаться в этом унылом месте. Поедемте со мной в Оксфорд. Вы остановитесь у меня, и, если захотите, ваша экономка тоже может приехать и ухаживать за вами. Я могу порекомендовать превосходного доктора.
Он радостно улыбнулся мне. Его дыхание пахло мятой и табаком, а от одежды исходил какой-то успокаивающий, знакомый аромат старых книг и скипидара… Меня вдруг охватила ностальгия, нестерпимое желание принять приглашение маленького простодушного священника, снова пожить в моей старой деревне, увидеть дом, где я родился. Кто знает, быть может, в комнате с бело-голубой фарфоровой ручкой все осталось по-прежнему, и дубовая кровать моей матери все так же стоит под витражным окном. И я разревелся, позорно жалея себя и жгуче тоскуя о человеке, которым мог бы стать.
Это было слишком для доктора Рассела: уголком застывшего глаза я видел, как он повернулся и тихо вышел из комнаты, скривив губы от отвращения и неловкости… но добрый священник даже не вздрогнул, он меня обнимал, пока я оплакивал себя, Эффи, Марту, свою мать, разбуженные воспоминания, которым лучше бы оставаться спящими, холодного маленького ребенка-призрака, красную комнату, шелковую накидку, первое причастие Присси Махони, рождественскую елку, все еще поблескивающую искусственными сосульками… и тот факт, что мне хотелось уехать в Оксфорд.
Мне хотелось доброты этого человечка, покоя его простой жизни, щебета птиц в кипарисах, остроконечных башенок колледжа в вечерней дымке… Я хотел этого, как никогда ничего не хотел; я хотел вселенской любви преподобного Блейкборо. Я хотел отпущения грехов.
Я рыдал, пускал слюни, и меня впервые обнимал и баюкал тот, кто не был шлюхой.
– Тогда решено, – сказал преподобный Блейкборо.
– Н-нет!
– Да почему же нет? – озадачился священник. – Вы разве не хотите наконец вернуться домой?
Я кивнул, не доверяя своему голосу.
– Тогда почему?
Я постарался говорить отчетливо; рот словно забило грязью.
– Должен… исповедаться, – с усилием произнес я.
– Да-да, конечно, – добродушно отозвался священник. – Но давайте подождем, пока вам не станет лучше. Это безусловно может подождать.
– Нет! Н-нет… времени, – сказал я. – Ну-ужно… сейчас. На случай, если я… Вы… должны… знать. Я… не смогу вернуться домой… с вами… если…
– Понимаю. – Маленький священник кивнул. – Что ж, если это вам поможет, конечно, я готов вас исповедовать. Когда вы последний раз были на исповеди?
– Дв-двадцать лет назад.
– Ох! – Преподобный Блейкборо был ошарашен, но моментально взял себя в руки. – Понимаю. Что ж… э-э… Не торопитесь.
Я рассказывал долго и мучительно. Дважды я умолкал, обессиленный, но понимал, что вряд ли еще когда-нибудь найду мужество заговорить, и это заставляло меня продолжать. Когда я закончил, была почти ночь; преподобный Блейкборо уже давно слушал молча. Его круглое лицо стало бледным и испуганным, и, когда я завершил рассказ, он буквально вскочил со стула. Я слышал, как он возится в тазике с водой на умывальнике позади меня, а когда он снова подошел и взглянул на меня, он был абсолютно серого цвета, губы кривились, будто его тошнило, он не мог смотреть мне в глаза. Что же до меня, я осознал, что этот разрушительный порыв исповедоваться никак не облегчил моей вины – мой победный груз был в целости и сохранности в черном склепе на дне моего сердца.
Око Бога не обмануто. Я ощущал его неотвратимую злобу – я не убежал от Бога. Хуже того, я сбил с пути этого невинного человечка, я предал его веру в изначальную доброту мира и его обитателей. Преподобному Блейкборо невыносимо было смотреть на меня, его уверенность в себе, его спонтанная доброта исчезли, на смену им пришли замешательство и смятение; у него был такой вид, словно его предали. Он не повторил своего приглашения и уехал первым же поездом.
Затем последовала череда несвязных событий, нанизанных над бездной моей жизни, как бусины на нитку. Моя студия опустела, написанный маслом «Триумф смерти» был выставлен в Академии. Доктор Рассел приходил несколько раз, приводил с собой специалистов, и они отчаянно спорили, что же все-таки случилось с моим сердцем. Однако все они соглашались в одном: скорее всего, я никогда не смогу ходить и двигать левой рукой, хоть мне и удавалось шевелить правой рукой и шеей. Каждые два часа надо мной склонялось озабоченное лицо Тэбби – если я вовремя не принимал хлорал, меня знобило и пот лил градом. Как-то раз заявился репортер из «Таймс», и Тэбби без рассуждений выставила его за порог.
А по ночам к моей постели приходили они, мои дорогие эринии, и тихо смеялись в темноте, равнодушные и торжествующие, ласковые и безжалостные, их зубы и когти бесконечно любящие, губительно соблазнительные. Все вместе они изучали впадины моего мозга с материнской нежностью, с острой утонченностью разрывая, рассекая… Днем они были невидимыми колючими паутинками под моей кожей, тончайшими стальными сетями, что опутывали, сдавливали мое окровавленное сердце. Я молился – или пытался молиться, – но Богу не нужны были мои молитвы. Мои страдания и муки совести – лакомство куда аппетитнее. Бог хорошенько покормился Генри Честером.
Неделя, семь дней непристойного бреда в руках моих дорогих суккубов. Как и Бог, они были голодны, а теперь и озлоблены в своей безысходности.
Я знал, чего они хотят, лязгая цепью, рыча и пуская пену при виде добычи. Я знал, чего они хотят. Сказку. Мою сказку. А я хотел ее рассказать.
Они арестовали меня прямо между жадных бедер моей последней любовницы. О, все было донельзя культурно. Два констебля вежливо ждали, пока я вставал и стыдливо заворачивался в китайский шелковый пеньюар, а затем тот, что постарше, сообщил мне слегка извиняющимся тоном, что я арестован за убийство Юфимии Честер и что лондонская полиция будет признательна, если я проследую с ними в участок, как только это будет удобно.
Признаюсь, комичность ситуации меня поразила. Значит, Генри раскрыл наш секрет, выходит так? Бедный Генри! Если бы не деньги, я бы рассмеялся вслух; но, кажется, я и без того с блеском отыграл финальную сцену. Я улыбнулся, повернулся к девчонке (она хныкала и пыталась скрыть под простыней свои выдающиеся прелести) и послал ей воздушный поцелуй, затем отвесил легкий поклон констеблям, взял свою одежду и, весь в восточных шелках, продефилировал к двери. Я развлекался.
Я провел унылый час в камере на Боу-стрит, пока офицеры за дверью обсуждали мое мнимое преступление. От скуки я мухлевал с пасьянсами (в кармане пальто нашлась колода карт), и, когда двое полицейских, флегматик дылда и холерик коротышка, наконец заявились в мою камеру, пол превратился в мозаику из цветных прямоугольников. Я одарил их душевной улыбкой.
– А, джентльмены, – бодро сказал я, – как мило, что у меня появилась компания. Не хотите ли присесть? Боюсь, мебели здесь маловато, однако…
Я кивнул на скамейку в углу.
– Сержант Мерль, сэр, – сказал высокий полицейский. – А это констебль Хокинс…
Надо отдать должное английской полиции: они всегда уважают высший класс. Что бы ни совершил джентльмен, он все равно остается джентльменом, и у него имеются определенные права. Право на эксцентричность, к примеру. Сержант Мерль и его констебль терпеливо слушали, пока я рассказывал правду о своих отношениях с Эффи, о затее Фанни и Марты и наконец о нашей попытке имитировать смерть Эффи на кладбище. Полицейские держались серьезно и невозмутимо (Мерль время от времени записывал что-то в свой блокнот), и, пока я не закончил свое повествование, с их лиц не сходило почтительное безразличие. О да, обожаю английскую полицию.