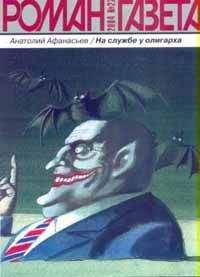— И всё же, Виктор, призываю вас к осторожности. Лиза изумительная девушка. Но… Ах, извините, кажется, меня зовут.
Никто его, разумеется, не звал и не мог звать, но возможно, ему почудилось. Воздух поместья был насыщен звуковыми галлюцинациями, а по ночам в помещениях дворца, как и в парке, немудрено было наткнуться на призраков. Я уже встречался с ними дважды. Один раз, когда пошёл среди ночи, засидевшись над рукописью, на ближайшую кухню сварить себе кофе, навстречу из бокового коридора выскочили две весело щебечущие девчушки в развевающихся белых накидках, обе чем-то похожие на Лизу. Пронеслись мимо меня, словно не заметив, обдав свежим ароматом мокрых цветов, и всё бы ничего, если бы у одной не стекала со лба на грудь тоненькая яркая струйка крови, а вторая вообще не была в с оторванной головой, которую, хохоча, тщетно пыталась укрепить на тонкой кривой шейке. Видение мелькнуло и исчезло, а я стоял с открытым ртом, забыв, зачем вышел из комнаты. Второй раз призрак заглянул ко мне в окно под утро, синий, как баклажан, со свирепыми вращающимися глазами. Непонятно, мужчина или женщина. Обиженно просипел через стекло: «Ну что, писатель, хрен тебе в ж…, долго будешь мне нервы мотать?»
Я не успел ответить на грубость — призрак растворился в предутренней дымке.
Я допускал, что всё это хитрые штучки доктора Патиссона, рассчитанные на то, чтобы поселить во мне вечный страх. Известно, сон разума рождает чудовищ. Для чего это нужно Патиссону, я не совсем понимал. Мой дух и без того был порабощен, я униженно выказывал готовность служить олигарху не щадя живота своего; бумагу о том, что задолжал полтора миллиона, подписал, убийство Гария Наумовича признал, больше не пытался отпираться — чего же ещё? Третьего дня доктор заглянул ко мне в комнату с «эвкалиптовой настойкой» («Для промывки кишочек, батенька мой»), и я покорно выпил целую бутылку. Потом прямо спросил:
— Герман Исакович, зачем вы это делаете? Чего добиваетесь? Я ведь и так целиком в вашей власти.
Круглое лицо осветилось улыбкой, просияли золотые дужки очков.
— Вы абсолютно правы, дорогой мой, вам нечего больше опасаться… Однако вся эта история — расправа с бедным Гариком, похищение денег — не прошла даром для вашей психики. Моя задача как врача — постараться вернуть вам душевное равновесие. В конце концов, мы все когда-то давали клятву Гиппократа, не правда ли?
— И как вы узнаете, что я здоров?
Доктор хитро прищурился.
— В первую очередь по вашим реакциям, голубчик мой. Сейчас вам кажется, вы самый несчастный человек на свете, возможно, опасаетесь, что вас постигнет участь Гарика или что похуже. Так называемый комплекс Раскольникова. Мой долг — вернуть вам полноценную радость бытия.
— Но зачем, скажите, зачем?!
— Дотошный вы субъект, Виктор, всё-то вам надо знать. Хорошо, вот вам правда. Я, как и вы, работаю на многоуважаемого господина Оболдуева, и в мои прямые обязанности входит медицинский контроль над его ближайшим окружением… Посудите сами, какую вы напишете книгу о нём, если в глубине души относитесь к нему как к чудовищу, как, простите за выражение, к кровавому аспиду?
— Неправда! — пылко возразил я. — Я с глубочайшим почтением… Всё, что он делает для руссиян, сравнимо с деяниями Петра, прорубившего окно в Европу. Молю Всевышнего лишь о том, чтобы хватило скромных способностей запечатлеть…
— Не перебарщивайте, голубчик мой. — Патиссон поморщился, в глазах блеснула светлая искорка, свидетельствовавшая о том, что за благодушной физиономией простака таился проницательный ум. Он видел меня насквозь. — Речь не о ваших способностях. Как ни крути, сударь мой, вы принадлежите к категории руссиянских интеллигентов, а это порченая порода. На ней иудина печать. Признаюсь, всё ваше поведение пробудило во мне исследовательский зуд. Хочется установить с научной достоверностью, возможно ли в опустошённой, циничной душе, порабощенной дьяволом, пробудить хотя бы отблеск искреннего христианского чувства.
Если пользоваться старинным слогом, у меня глаза на лоб полезли от удивления. Ну что тут можно добавить?
Заглядывала и бесстрашная Изаура Петровна, дабы поддержать морально. Меня вернули в прежние покои, но в коридоре обязательно дежурил охранник из гвардии Гаты, Абдулла или ему подобный. Изаура Петровна навещала меня среди ночи, наспех склоняла к соитию (не зажигая света) и поспешно убегала. Мы даже не успевали покалякать ни о чём. Так повторялось два-три раза за ночь, причём и тогда, когда Леонид Фомич был в наличии. Я не удержался, спросил:
— Как ты не боишься, вдруг донесут?
Она жеманно захихикала:
— Не волнуйся, ягодка, Оболдуюшка не ревнивый.
На второй раз, когда пристал с тем же вопросом, ответила раздражённо:
— Хоть ты и писатель, но должен немного соображать. Неужели ничего не понял?
— А что такое, Иза?
— Дурашка, да он сам меня подсылает…
После долгого раздумья, уже в процессе коитуса, я обронил любимое:
— А зачем?
Изаура недовольно запыхтела, она не любила сбиваться с ритма.
— Ему виднее. Не отвлекайся, пожалуйста, укушу…
Я не знал, чему верить.
В ту ночь, после свидания с Лизой у пруда, Изаура Петровна опять оказала мне честь, и я поинтересовался, зачем она обманула, сказав, что Лиза уехала за границу. Изаура смолила косячок, блаженно отдыхая после акта.
— Видел её?
— Из окна… Какой смысл обманывать?
— Никакого обмана, солнышко. Для тебя она всё равно уехала. Прокололись вы с ней. Хоть успел оттрахать? Или струсил?
— Иза, прошу тебя!
— Ах да, мы же порядочные, совестливые… Ну и кретин, что не уважил скороспелку. Девка насквозь протекла, а ты… Вот и упустил пташку.
Я молчал, напряжённо ожидал продолжения. Когда заходила речь о падчерице, Изауру прорывало. Так вышло и на сей раз.
— Должна тебя огорчить, сладость моя, плохи дела у твоей целочки.
Она зажгла лампу, чтобы полюбоваться моей реакцией. Я был бесстрастен, как сфинкс, лишь для понта выковырнул из уха несуществующую мошку.
— Тебе не интересно, солнышко?
— А что с ней? Грипп? Простудилась?
— Крыша у целочки поехала… Довыпендривалась. Оболдуюшка не верит, но Герман своего добьётся. Положит в клинику. Ничего, там её успокоят. Перестанет корчить из себя принцессу.
— Она изображает принцессу? Что-то не заметил.
Изаура Петровна со смаком дососала косячок, остаток расплющила в пепельнице. Её пухлые нежные пальчики не боялись огня.
— Маленькая хитрая ведьмочка, — протянула сладострастно. — Там её подлечат. Небольшой профилактический курс — и мама родная не узнает. Всё упирается в Ободдуя. Вбил себе в голову, что такая, как есть, она ему больше подходит. Ничего, теперь убедился, что шизанутая. Не без твоей помощи, солнышко, спасибо тебе за это.
— Иза, чем она тебе так досадила? Вроде безобидная.
— Жалко стало? Понимаю. Такая свежая дырочка ускользнула. Не строй иллюзий, лапочка. Какая она целочка, спроси у Вовки Трубецкого.
— Иза, ты же знаешь, я не люблю, когда ты такая.
— Какая?
— У тебя добрая, нежная, чистая душа. Все твои приколы, показной цинизм — это всё наносное, не твоё. На самом деле ты только и мечтаешь, как бы поскорее уйти в монастырь.
— Ну, залудил, Витюня! Да если бы я об этом мечтала, я бы давно отравилась.
— Послушай, а что всё-таки собой представляет Патиссон? Никак не могу разобраться. Он действительно профессор?
— Монстр и вампир. Как раз тот, кто нужен малышке для вразумления.
— Ты с ним спала?
Изаура помедлила с ответом, легла поудобнее, готовясь начать привычное священнодействие любви.
— Почему спросил?
— Я его боюсь.
— И правильно делаешь… Спала? Да, дала ему разок из любопытства. Прокусил вену и высосал пинту крови.
Чтобы я не усомнился, показала шрам чуть повыше запястья, две красные чёрточки, действительно, как след укуса…
Лучше всех, без фарисейства и увёрток, относился ко мне Гата Ксенофонтов, особенно после того, как я подписал долговое обязательство. Не скрывал, что видит во мне загнанную конягу, которую не сегодня завтра обязательно пристрелят.
— Смотрю на вас, малохольных, — пуча тёмные глаза, скосив их к переносице, как бы прицеливаясь, говорил он, — чудно становится. Писатели разные, артисты тоже. Политики с…ые. Трепло всякое. Я раньше тоже, бывало, сяду у телика, развешу уши и слушаю вашего брата. Жу-жу-жу, жу-жу-жу! После скумекал: такие, как вы, Россию и заболтали. Отдали на съедение крысам.
Гата любил подковырнуть, он был прирождённый полемист и единственный человек в поместье, с кем не страшно было спорить, хотя как раз он мог придавить меня одним пальцем, точно мошку.
— По-твоему, единственное достойное занятие для мужчины — убивать, так выходит?
— Не обязательно. Мужик должен строить, землю пахать, делать что-то полезное. Ну а коли понадобится, конечно, защищаться. Близких защищать. А как же…