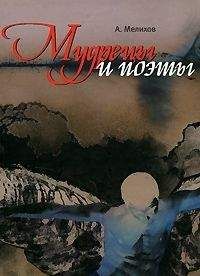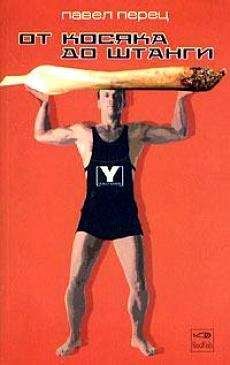– Боюсь, вы обсуждаете варианты мифа из разных мифологий, – сказал я.
– Мм? Ну так, Катерина, я кругом не прав?
– У тебя холодный ум. А истина открывается только любви. – И отчеканила холодно: – Кроме того, я сомневаюсь в бескорыстии твоих побуждений. Только ли о музее ты заботишься?
– Вот как? – криво усмехнулся Витя Маслов. – Очень, очень интересно… Так, так, так, так, так…
Витино лицо каменело на глазах.
– Так, так, так… Ну так знай: сигналы твоих мамонтов всем надоели, в том числе и мне. Надоело утрясать. Впрочем, что обо мне говорить, я ведь корыстолюбец… Защищал, лбом бился, подлизывался, но пусть, ладно, я из корыстных целей – вон уже в трех дубленках на двух «Волгах» разъезжаю…
Она слегка смягчилась, но по-прежнему не глядела на него.
– Я не говорю, что ты из корыстных целей, но нет в тебе этого священного огня, благоговения , которым ты должен зажигать сердца обывателей, а не учить их похлопывать гениев по плечу, журить их как школьников… Я как раз вспомнила, как в Большом Московском трактире зажравшийся адвокат предрекал Нордину, что ему «спасибо не скажет сердечное русский народ».
– Ясно, ясно, усвоили, я зажравшийся адвокат. Ну вот, мне и надоело адвокатствовать без гонораров. Вчера вынесли решение о закрытии музея.
– Как?!
Я никогда не видел, чтобы люди так внезапно бледнели – она мгновенно сделалась стеариновой, как бунинская луна.
– Вот так. Я сегодня был на приеме у Доронина, и он меня поставил в известность. С садиками у нас трудно – а тут пустует дом.
Она, как слепая, пошла по периметру вдоль стендов к выходу.
– Подожди, ты куда?
– К Доронину, – мертвыми губами.
– Что, самосожжешься у него в приемной?
– Не знаю… что-нибудь сделаю… я все сделаю… я спасу… почему именно у Бориса Яковлевича…
– Да подожди, подожди. Я пошутил. Ничего он мне не говорил, просил только поговорить с тобой.
Сознание медленно возвращалось к ней.
– Ты правду говоришь? – она еле шевелила губами.
– Правду, правду… с тобой пошутить нельзя.
– Но как ты мог?! Как ты мог?! – ее лицо перекосила девчоночья гримаса плача, губы растянулись и вывернулись, сейчас она была самой настоящей Катей, а никакой не Смирновой-Россет.
– А я уже поверила… поверила, что у меня теперь будет настоящий смысл жизни… что я спасу Бориса Яковлевича!..
Она вдруг повернулась и выбежала, путаясь в своем длинном, под девятнадцатый век, платье.
– Жертва провинциальной романтики, – неловко ухмыльнулся ей вслед Витя Маслов. – Видал, плачет, что не удается пойти на крест за своего Лошадко. Я смотрю, Нордин и после смерти разбивает женские сердца.
…Огнем зелено-серых глаз мне чаровать дано. И много душ в заветный час я увлеку на дно… 8 Чтобы не смотреть на Витю Маслова, я разглядывал стенды. Разворот губернской «Красной газеты» под стеклом – голубоватая ворсистая бумага с блекло-рыжими веснушками, рябая печать. На левой стороне заметка о борьбе с голодом, приводятся цифры умерших из месяца в месяц – счет идет на тысячи. На правой сонет Нордина, в котором Россия сравнивается с неопалимой купиной, Крон сзывает рабочих под красное знамя, Норны наводят пушки на захваченный юнкерами Кремль, а кто такие Оры, я уже не знал. Но, кажется, не меньше, чем с заметкой о голоде, сонет контрастировал с соседним стихотворением:
Мы встали для грозного боя,
Как валы разъяренных морей.
Мы враги буржуазного строя!
Мы могильщики власти царей!
За нами все в строй, создавайте прибой!
Будите призывным набатом,
Гремите громовым раскатом,
Вперед на бой, на бой, на бой, на бой!
Серенький томик Нордина лежал рядом с монастырского вида «Золотым руном», раскрытым на какой-то маркизе у фонтана в колокольнейшем кринолине. Гравюра была выполнена линиями, представляющими собой вопросительные знаки во всевозможных расположениях.
– Катерина купила за свои кровные у маклака, – небрежно указал на «Золотое руно» оправившийся Витя Маслов. – А жалованьишко у нее сам понимаешь… Притом настояла, чтобы журнал был открыт для общего пользования: пусть все желающие знакомятся с так называемым «славянским периодом» творчества Нордина. А самый ревнивый из желающих не пожелал обладать славянским периодом в компании и вырезал всего Нордина да еще Андрея Белого прихватил. Катерина говорила, что этот разрез так и не зарастает в ее душе, – я говорю: вшей туда «молнию». Не может без высокопарностей! И спроси ее: видит она еще кого-нибудь в мире, кроме Нордина своего драгоценного? Эти, с голоду помершие потихоньку-полегоньку у себя в уголке, – их она вспоминает хоть по праздникам?
– Сгибнет бесследно, быть может, что ведомо было одним нам, – вместо ответа указал я на пострадавшее «Золотое руно».
– Очень уместно, – Витя Маслов был явно доволен, что неловкость миновала. – А как тебе нравимся мы, мудрецы и поэты, хранители знанья и веры? Я Катерине всегда повторяю: я – мудрецы, ты – поэты.
– Ты точно цитируешь?
– Я подхожу к цитатам творчески, они ведь нам только для того и нужны, чтобы выразить что-то наше. Почему оборвать ее в нужном месте можно, а исправить нужное слово, притом в лучшую сторону, – нельзя. Ты этот сборничек Нордина еще не читал? Ну, захочешь – достанешь. Из пятнадцати-то тысяч! Полистать можешь, конечно, и здесь…
Витя Маслов очень по-домашнему пошарил под пьедестальчиком Аполлона и новеньким ключиком отпер витрину.
Когда просто даже пролистываешь мощный текст, и то ощущаешь какой-то напор красоты, – глаз, видно, что-то да успевает ухватить. Этот напор из серенького томика давил на лицо, словно сквозняк на форточку. Глаз иногда выхватывал образы такой пронзительности, что потом, даже вспоминая, невольно поводишь лопатками.
– Ты когда уезжаешь? – наконец надоело Вите Маслову. – Чего так скоро? Так приходи ко мне и читай хоть до утра, у меня все они есть – и Бальмонт, и Сологуб, – снабжают. Вот и овладевай культурным наследием. А Белым интересуешься? Молодец, а я уже на красное перехожу. Организм уже не тот. Посидим, вспомним ветреную младость.
Я держал в руках ветхую брошюрку, изданную «Алконостом».
– «Под мистицизмом я разумею, – прочел я вслух, – совокупность душевных переживаний, основанных на иррациональном опыте, протекающем в сфере музыки и раскрывающем нам непосредственно ноуменальную сторону мира». Слушай, как ты исследуешь этот бред?
– Так среди бреда нет-нет да и попадутся две-три осмысленные фразы – я на них и ссылаюсь. А потом смотришь – и другие только их и цитируют. Да вот, пожалуйста: «Человек становится тем, во что он верит. Так поверим же, что мы не просто представители земного победившего класса, а боги нового Олимпа. Если под корой повседневности мы разглядим ее мистическое основание, то уже не отнесемся к ней брезгливо и высокомерно».
– М-да… Сгибнет бесследно, быть может, что ведомо было одним нам…
– Да черт их знает, было ли им что-нибудь ведомо, – столько во всем этом было оригинальничанья.
– Слушай, мне-то ты можешь голову не морочить – какой был Нордин на самом деле?
– А нету его.
– Чего?
– «Самого дела». Нет поэтических достоинств, не зависящих от наших нужд. Поэтические достоинства – это наше отношение к ним.
– Так так-таки и нету его – «самого дела»?
– Нету. Все абсолюты – это один сплошной идеализьм.
– Ясно. А вот скажи… Ты только что защищал три различные точки зрения – так тебе не приходит в голову, что языком можно доказывать все что угодно, и даже с блеском, – но цену будет иметь лишь то, за что заплачено твоей личной болью?
– Уже и ты начинаешь… Какой же ты математик?
– Ну ладно. А все-таки – как объяснить, что вроде бы неглупые и в своем роде образованнейшие люди были совсем безынерционными: подхватывались, как ты говоришь, всеми ветрами и летели «через край»?
– Я же тебе говорю: оригинальничанье. Маскарад. Ну и душевнобольных среди их брата тоже было порядочно.
– А может быть, дело в том, что они не жили повседневной жизнью? Вернее, не уважали ее – искали под ее корой чего-то неземного. Грубо говоря, прочитали двадцать тысяч книг и не вбили ни одного гвоздя. Не имели никакой практической профессии… Стыдились житейских забот…
– Мудришь чего-то…
– Знаешь, – решился я высказать затаенную мысль, – мне в последнее время кажется, что весь наш трезвый взгляд на жизнь – ну, трезвая наука, уважение к факту – все стоит на уважении к повседневности. Грубо говоря, на уважении к физическому комфорту. Мы трезво считаем, что дверь твердая, чтобы не разбить лоб. А если тебе лба не жалко – можно уже считать ее хоть мягкой, хоть и вовсе несуществующей. Понимаешь? Если бы мы считали, что стыдно стремиться к комфорту, хотя бы и для кого-то другого, то у нас исчезли бы все основания отличать истину от заблуждения. Тогда бы мы и могли лететь «через край», фантазировать в свое удовольствие – лбов ведь не жалко, ни своих, ни чужих. Сейчас я прочитал у Нордина, что здоровье – пошлость…