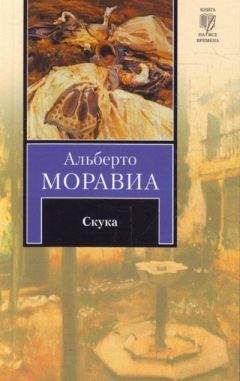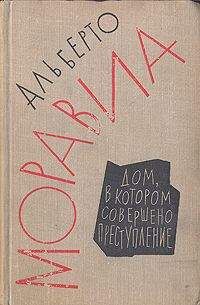Размышляя обо всем этом, я продолжал проталкивать Чечилию сквозь толпу, от одной группы к другой, от одного кружка к другому, среди сигаретного дыма и жужжания голосов, задевая подносы, уставленные бокалами разных форм и цветов, которыми лакеи обносили гостей. Это был действительно многолюдный прием, и, судя по всему, мать устроила его с размахом, не считаясь с затратами. Тем не менее деньги, которые она потратила на то, чтобы достойно принять гостей, были просто ерунда по сравнению с теми поистине неисчислимыми деньгами, которые стояли за каждым из приглашенных. Не знаю почему, но я вспомнил, как несколько лет назад на подобном приеме один толстый, здоровый, веселый старик спросил у другого старика, бледного и грустного, тоном человека, желающего с научной достоверностью установить какую-то истину: «Как ты считаешь, какой капитал — в цифрах — заключен сейчас в этих четырех стенах?» И этот другой мрачно ответил: «Откуда я знаю! Я же не налоговый инспектор!»
Я не раз спрашивал себя, почему я чувствую такое глубокое отвращение к миру моей матери, но только в тот день, вспомнив эту фразу и сопоставив ее с лицами, которые меня окружали, я наконец это понял. Вглядываясь в лица приглашенных матерью гостей, я вдруг совершенно точно понял, что не было тут ни одной морщины, ни одной модуляции голоса, ни одной рулады смеха, которые не были бы впрямую связаны деньгами, которые, как сказал тогда толстый старик, стояли тут за каждым из гостей. Да, подумал я, деньги вошли тут в плоть и кровь; заработанные честным удачливым трудом или отнятые хитростью и силой, они дали один и тот же результат — совершенно нечеловеческую, чудовищную вульгарность, которая просвечивала и сквозь самую раскормленную тучность, и сквозь самую иссохшую худобу. И если правда, что с деньгами невозможно развестись и богатый, как бы он ни старался, не сможет притвориться бедным, то естественно, что и я, сам того не желая, был частью этого общества богатых и именно деньги, от которых я тщетно пытался отказаться, создали кризисную ситуацию и в моем искусстве, и в моей жизни. Я был богач, который просто не хотел быть богачом; я мог рядиться в лохмотья, питаться сухими корками и жить в лачуге — все равно деньги, которые мне принадлежали, превращали лохмотья в элегантные одежды, сухие корки — в изысканные лакомства, а лачугу — во дворец. Даже моя машина, такая старая и расхлябанная, была роскошнее самых роскошных машин, потому что то была машина человека, который, стоило ему захотеть, мог тут же получить другую, с иголочки новую и роскошной марки.
Я вздрогнул, услышав голос матери:
— О, Дино, — сказала она, — какой приятный сюрприз!
Она стояла прямо передо мной, но я ее не видел, вернее видел, но не мог отделить от толпы приглашенных, потому что в этот момент она казалась мне одной из них, во всем на них похожей, не имеющей со мной никакой, даже кровной связи. Наедине с матерью я всегда чувствовал, что она моя мать, но в толпе, заполнявшей ее гостиные, она становилась неразличимой, как птица в стае или рыба в косяке. И ее склонность к экономии, которая, когда она была одна, могла показаться ее индивидуальной чертой, тут, среди толпы гостей, обнаруживала свой внеличный, всеобщий характер. И как о всех персонажах, заполнивших гостиные виллы, так и о моей матери можно было сказать, что за стеклянным блеском ее голубых глаз, за ее броскими массивными драгоценностями, за ее нервной худобой, за подчеркнутой искусственностью макияжа, за пронзительным голосом стоял денежный конформизм, характерный для всего общества, частью которого она была, а вовсе не особенности ее личности.
Похожая на своих гостей даже внешне, мать и вела себя во время нашей короткой встречи точно так же, как они. Обычно, оставаясь со мною наедине, она была очень внимательна, но сейчас, на коктейле, где нормой считалась подчеркнутая рассеянность, проистекающая из безразличия, спешки, невозможности что-либо как следует расслышать, мать вела себя как все остальные, то есть смотрела, не видя, и слушала, не слыша. Сразу после своего радушного приветствия она сказала что-то несвязное насчет обязанностей, которые не позволяют ей мною заняться, причем в ее голосе не было ни малейшего любопытства; не переставая оглядываться вокруг, торопливо и словно бы только для проформы она добавила:
— Напоминаю тебе, что ты еще не представил мне синьорину.
Я торжественно сказал, беря Чечилию под руку:
— Это Чечилия, моя невеста.
И тут произошло непредвиденное. Мать либо не расслышала моих слов, либо расслышала, но не поняла, во всяком случае я должен сказать, что восприняла она их как ничего не значащий звук: на мгновение остановив на Чечилии свои нестерпимо сверкающие глаза, она вдруг воскликнула:
— Простите, мы еще непременно увидимся, но сейчас меня ждет важное дело. — И, не дождавшись ответа, двинулась сквозь толпу с решительностью акулы, рассекающей морские глубины навстречу своей жертве. Насколько я понял, кто-то приехал, может быть кто-то очень важный, и мать не услышала меня, потому что именно в ту минуту, когда я представлял ей Чечилию, она заметила у самых дверей воронкообразное движение, свидетельствующее о появлении нового гостя.
Я взял с подноса, предложенного лакеем, два бокала, один протянул Чечилии и втолкнул ее в оконную нишу.
— Ну, что ты скажешь?
— О чем?
Я в растерянности молчал. Я не знал, о чем именно я хотел ее спросить, наверное обо всем, потому что не слышал ее мнения еще ни о чем. Я сказал первое, что пришло мне в голову:
— Ну, об этом приеме.
— Прием как прием.
— Тебе нравятся приемы?
Она ответила после паузы немного нервно:
— Не очень. Я не люблю, когда шумно и много дыма.
— А что ты думаешь обо всех этих людях?
— Ничего не думаю. Я никого здесь не знаю.
— Тут есть люди, которые могут быть тебе полезны; если хочешь, я могу тебя познакомить.
— В каком смысле полезны?
— Ну, для жизни в обществе.
— Как это?
— Они могли бы подружиться с тобой, то есть благоволить к тебе, приглашать на такие же праздники, а если это мужчины — то и поухаживать. Из всего можно извлечь какую-то пользу. Многие только ради этого и ходят на приемы. Так хочешь с кем-нибудь познакомиться?
— Нет, нет, не стоит, тем более что я никогда их больше не увижу.
— Непременно увидишь, раз мы поженимся.
— Ну вот тогда ты нас и познакомишь.
Мне хотелось затронуть тему богатства, но я не знал, как подступиться. В конце концов я сказал:
— Все люди, которых ты здесь видишь, очень богаты.
— Да, это заметно.
— А из чего это заметно?
— Ну это видно по платьям, которые на дамах, по их драгоценностям.
— Тебе хотелось бы быть такой же, как они?
— Не знаю.
— Как это не знаешь?
— Я ведь не богата. Я должна разбогатеть, чтобы понять, нравится мне это или нет.
— А разве ты не можешь просто вообразить?
— Как можно вообразить то, что не знаешь?
— Но ты любишь деньги?
— Когда они мне нужны, да.
— А разве они не всегда тебе нужны?
— Сейчас нет. Того, что ты даешь, мне хватает.
Я смотрел, как она разглядывает толпу своими большими темными глазами, и пытался понять, что, собственно, она видит, похоже ли это хоть в какой-то степени на то, что вижу я. Она медленно сказала:
— Тут нет молодых девушек. Тут только дамы возраста твоей матери.
— Мать принимает своих подруг, естественно, что все это дамы ее возраста. Но ты не ответила. Что ты думаешь о том, чтобы выйти за меня замуж и сделаться такой же, как эти дамы?
— Я не могу тебе сказать, я еще не думала.
— Так подумай сейчас.
Я увидел, что она снова посмотрела на зал, поднесла к губам бокал, сделала глоток, но так ничего и не сказала. Это тоже был ее способ ускользать от меня: молчание. Но я настаивал:
— Можно по крайней мере узнать, о чем ты думаешь?
Она ответила с неожиданной резкостью:
— Я думала, что хорошо бы пойти туда, где хоть немного потише. Там я смогла бы тебе ответить.
— Ответить?
— Да, про женитьбу.
— Куда ты хочешь, чтобы мы пошли?
— Мне все равно.
— Тогда давай поднимемся на третий этаж. Там мы сможем немного побыть в тишине. И к тому же ты сможешь посмотреть дом.
Мы поставили свои бокалы на подоконник, я взял Чечилию за руку и повел через толпу к двери в глубине гостиной. Открыв дверь, я подтолкнул Чечилию, и мы очутились в коридоре. И сразу же весь шум, дым и теснота остались позади, и мы окунулись в свежий и чистый воздух совершенно пустого безмолвного дома. Я подвел Чечилию к лестнице, и мы начали подниматься: одной рукой я скользил по перилам, другой обнимал ее за плечи. Я спросил: