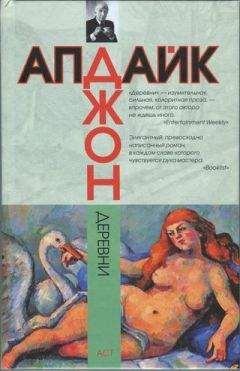Впоследствии, в Миддл-Фоллс Оуэн часто играл в теннис, правда, без особого успеха. Ему плохо давался удар слева, а при подаче отчаянно ныло правое предплечье. Посещение корта всегда омрачалось воспоминанием о том стыде, что он испытывал тогда в Уиллоу. Пассажиры в троллейбусе с любопытством глазели на двух неумех, старающихся перекинуть мяч через сетку, но мяч попадал либо в нее, либо в дребезжащую проволочную ограду.
Мама умерла через несколько лет после того, как он женился на Джулии. Она лежала в гробу седая, располневшая, а вокруг стояли немногочисленные ее знакомые, приехавшие в Доувер-Фоллс на похороны. Отношения с первой невесткой у нее были натянутые. На нелады с Джулией сил уже не хватало. Напротив, она позволяла второй невестке командовать в доме и даже массажировать ей ноги и позвоночник из-за болей в костях — и это при том, что не любила, чтобы до нее дотрагивались.
— Джулия, — говорила она, — ты хороший целитель. Руки у тебя просто волшебные. Оуэн стал гораздо лучше выглядеть, как сошелся с тобой. А то ходил какой-то худосочный, бледный.
— На мой взгляд, он всегда был красивым, здоровым мужчиной, — вежливо возражала Джулия. Также вежливо улыбаясь, возражала его матери Эльза, приходя к ним в гости, чтобы заявить свои права на Оуэна. Такая же улыбка появлялась на губах Алиссы, когда она тянулась к нему с потемневшими зрачками. Женщины вообще большие собственницы. Они поделили мир на части, и каждая владеет своей долей. Принято говорить, что женщина принадлежит мужчине. На самом деле мужчина принадлежит женщине.
Мать Оуэна умерла за домашней работой, без мучений, от сердечного удара. Ее нашли лежащей на вычищенном ковре, рядом стоял старенький пылесос со сгоревшим мотором. Все четверо взрослых, с кем Оуэн жил ребенком, мальчишкой, подростком, умирали спокойно и как-то незаметно, словно не хотели никому причинять неприятностей.
Оуэн достиг тихой гавани. Любимая жена, хорошие дети, неплохая пенсия. И все-таки он чувствовал: в его жизни что-то не то; ощущал в себе непонятную напряженность, какой не испытывал в первом браке. Они поженились молодыми, как многие, перед ними открывалось будущее.
С Джулией у него было все по-другому. Они сломали две семьи и погубили человеческую жизнь, хотя ни один суд не вменил бы им это в вину.
Арт Ларсон — так он себя сейчас называет — давно расстался с саном священника и поступил на службу в одну из нью-йоркских компаний руководителем отдела по связям с общественностью. Он приезжал в Хаскеллз-Кроссинг на свадьбу дочери и похороны старого друга. У него по-прежнему звучный мелодичный баритон, но гриву на голове он состриг и без глухого стоячего воротника выглядит беззащитным. С Оуэном он был не менее вежливым и обходительным, чем при первом знакомстве. Даже у фаталиста живуча вера в высшую справедливость и необходимость прощать.
«Есть два веских аргумента, — рассуждал Оуэн, — в пользу христианской религии: первый — это наше желание жить вечно, какой бы жалкой и скучной ни была жизнь, и второй — наше ощущение, что мир устроен не так, как следовало бы… Нам кажется, что мы сотворены для лучшей доли, но мы сами повинны в том, что действительность так непохожа на рай. Второй аргумент, вероятно, весом более, ибо страх смерти, как и боль, — это наш способ выжить, отработанный в ходе дарвиновской эволюции видов. Чем сильнее страх смерти, тем сильнее нам хочется жить. Жить так долго, как запрограммировано нашими генами. Природе безразлично, какие страдания мы при этом испытаем.
В пользу религии можно выдвинуть и третий аргумент: вера укрепляет здоровье. Но этот довод опровергается многочисленными медицинскими исследованиями. Он ничего не доказывает, даже если использовать его с крупинкой соли, то есть немного сомневаясь в том, что вера лечит и гонит мысли о самоубийстве или убийстве…»
Мнение, что поклонение небесам способствует земному успеху, Оуэн считает грубо прагматичным. Оптимизм обещает благополучие, однако это не отменяет высоких истин пессимизма. Человеческое существо, зародившееся на деревьях, затем спустилось на землю и развивалось в саваннах Кении. Впоследствии человек достиг такой степени сознания, которое неподвластно утешительным постулатам философии. В три часа ночи наш мозг перемалывает мучительные мысли, как мельничные жернова муку, ища способ спастись с тонущего житейского корабля. Но западный человек не научился выпрыгивать из самого себя. Мы заперты со своими страхами в крепких стенках черепной коробки.
Состарившись, Оуэн и Джулия еще более привязались друг к другу.
— Не люблю, когда тебя нет дома, — говорит она, — даже когда ты уходишь поиграть в гольф.
— Как мило с твоей стороны, малыш, — говорит он. — Терпеть не могу, когда ты целый день режешься в бридж. Без тебя дом кажется таким большим и пустым.
Когда Оуэн подолгу сидит у себя в комнате со своим жужжащим процессором, пока тот тягается быстрым умом с электронными схемами, которые прокручивают алгоритмы с частотой в 220 миллиардов циклов в секунду, через операции И и ИЛИ, двигаясь к заключительным инструкциям ЕСЛИ… ТОГДА… ЕЩЕ, Джулия всегда находит повод зайти к нему. Она заходит, чтобы поинтересоваться насчет медицинской страховки или попросить подстричь кусты бересклета.
Только он со своим тонким вкусом может хорошо это сделать. Наемные рабочие то срежут меньше, чем нужно, то понаделают лысин, которые потом не зарастают. Джулия ищет любой предлог, чтобы выйти на веранду, где он в сотый раз пытается перенести на холст белесые дождевые облака, надвигающиеся откуда-то из-за моря, их изменчивые формы на обманчивую невесомость и воздушность. Сначала широкие мазки цинковыми белилами, кобальтовой синью, желтой охрой, а под конец легкая кисть с чернотой слоновой кости.
С раннего детства Оуэн отгораживался от неприглядной реальности: то уткнется в «Остров сокровищ», то принимается лепить из глины зверушек и солдатиков, то по немногословным указаниям Бадди Рурка соединяет золотистые волоски многожильных электрических проводов.
Чтобы поддразнить жену, Оуэн продолжает:
— Да, дом слишком велик для нас. Может, продадим его и купим другой, поменьше?
— Не говори глупостей. Ты же знаешь, я люблю наш дом. И тебя люблю. Временами.
— И это после стольких лет совместной жизни?
— Ну да. Сейчас даже больше люблю, чем раньше.
— Значит, ни о чем не жалеешь?
— Нет. А ты?
— И я нет.
Такие полулюбовные-полушутливые словесные игры — как музыкальный отрывок, который не приедается, несмотря на бесконечные повторы одних и тех же мелодических ходов.
И тем не менее Оуэн чувствует, что с каждым годом Джулия находит все больше поводов для недовольства им.
— Не ешь посередине кухни! — вдруг вскрикивает она как ошпаренная. — Ешь над раковиной, если ты так голоден. В жизни не видела, чтобы человек постоянно жевал! Неудивительно, что у тебя такие плохие зубы.
Мальчишкой Оуэн всегда боялся, что еда вдруг кончится, и потому бродил по дому с корнем сельдерея или немытой морковкой, только что снятой с грядки. Филлис никогда не обращала внимания на то, что он таскает с полок то кренделек, то печенье, то горсть орехов: у него постоянно сосало в животе.
— Над раковиной? Как собачонка над своей миской?
— Посмотри, на полу полно крошек! А уборщицы только что ушли.
Суетливые толстозадые бразильские девчонки изъясняются между собой на каком-то странном языке, полном, как русский, шипящих звуков. В больших странах, считает Оуэн, живется хуже, чем в маленьких, так как на них лежит громадная ответственность.
— Пожалуйста, не чавкай и не сопи, — говорит Джулия, когда он ест суп. В назидание ему супы она готовит редко. — Тебя плохо воспитывали. О чем только думала твоя мать?
— У мамы до меня детей не было. Ей все было в новинку. Когда живешь в трудных обстоятельствах, не до хороших манер.
— Все начинается с хороших манер, — не унималась Джулия. Оуэн понимает: эта мудрость отнюдь не последняя в череде наставлений. — Мой папа говорил, что хорошие манеры начинаются с учтивости, а учтивость — признак благородства, — продолжает она. — В этом духе я воспитала своих внуков. Посмотри, какие у них хорошие манеры. Бери с них пример. Они не чавкают и не сопят.
В дебрях памяти Оуэн лихорадочно ищет сведения, которые помогли бы ему защитить себя от упреков.
— У некоторых народов чавканье считается похвалой хозяину и хозяйке, благодарностью за хорошее угощение.
— Слава Богу, мы не такой народ. Кстати, у тебя есть еще одна дурная привычка. Вчера за ужином у Эйксонов ты не разломил хлеб, а стал откусывать от куска. Я чуть не выхватила его у тебя.
— О-о, это был бы замечательный пример хороших манер.
— Я люблю тебя, но терпеть не могу, когда ты ешь как животное.