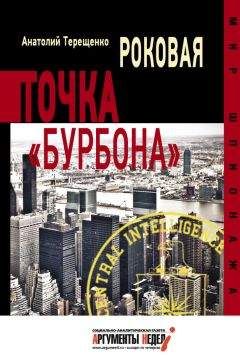Только что он выяснил, что начальство никого не винит и считает завал несчастной случайностью, которую нельзя было предотвратить. Настроение его заметно улучшилось. Ему хотелось разговаривать, рассказывать, общаться…
— Я удивляюсь, Иван Акимыч… — заметил он, — как вы согласились идти к шестому? Вы же сами правильно доказали — нельзя идти, нельзя рисковать шестью жизнями ради одной. И вот на тебе, сдались, людей не пожалели!
— Занимайтесь своим делом! — невежливо буркнул усатый Иван Акимыч и, прихрамывая, отошел.
Ни к чему сейчас Гаврилюку вспоминать утренние разговоры…
Говоришь, людей жалеть надо? Правильно! Спасибо!
Гаврилюк машинально погладил рубец на виске — давнюю отметку, как говорится, «на добрую долгую память»…
…Это в тридцать седьмом году заработано. Молоденький Гаврилюк был тогда механиком на «Смолянке», в Донбассе.
Однажды сидел он себе в лаве, осматривал конвейер. Вдруг грохот адский. От забоя, крича, воя, размахивая лампочками, побежали люди. Страх в мгновение ока подхватил механика с места и покатил кубарем вниз. Лишь где-то у самых люков, у выхода на штрек, к спасению, догнал отчаянный вопль:
— Помоги-и-и!
И Гаврилюк почему-то остановился. И потом даже двинулся назад. Тело сразу отяжелело, как свинцом налилось, не хотело повиноваться…
А наверху снова грохнуло. И рядом затрещали стойки.
— Помоги-и-и! — кричал кто-то во тьме совсем близко.
Гаврилюк побежал… Позади него с кровли обрушилась плита и раскололась на тысячу острых осколков, ударивших по рукам, по щекам, по каске. Но он бежал. Вверх!
У засыпанной породой врубовки лежал человек. Гафиулин, старик татарин.
— Вставай — крикнул Гаврилюк. — Я помогу. Вставай!
Нога старика не поддавалась. Гаврилюк, напрягшись, подхватил его под руки и дернул:
Дикий, нечеловеческий крик. Все! Схвачено намертво! Пропал дед!
Деревянные стойки уже не трещали, а стонали, пели в последнем, безнадежном усилии…
— Руби! — крикнул мастер. — Руби ногу!
Еще секунда — и все рухнет…
Гаврилюк отшвырнул лампу, схватил валявшийся рядом топор и, зажмурившись, рубанул. Но, сдержанный жалостью, удар был слишком слаб.
— Руби, руби!
Он снова размахнулся и обрушил топор на живое… Мгновение спустя он уже волочил тяжелое, безжизненное тело мастера вниз, к штреку.
А позади, в том месте, где они только что были, с пушечным грохотом обвалилась порода.
Добравшись до штрека, Гаврилюк вместе со своей ношей рухнул на рельсы. Их подхватили на руки и бегом понесли к стволу…
Когда Гаврилюк пришел в себя, ему сказали, что мастер в лазарете. Заражения крови нет. Без ноги, однако жить будет. Спасен! И, между прочим, у него двое детей…
Но тем временем в больницу пригласили следователя и составили акт, что нога у потерпевшего не придавлена, а отрублена «острым орудием, предположительно топором»… И дело пошло в суд.
— Я сам пойду! Я им скажу! — кипятился татарин, узнав о суде. — Орден надо… а не судить.
— Лежи пока! — посоветовал врач. — Может, разберутся.
И разобрались…
— Мы не будем его судить! — сказал судья. — Он проявил активную жалость к человеку…
Вот так это было, уважаемый товарищ Синица! Можете ли вы понимать, что это такое — активная жалость к человеку?
На третьем штреке, в «темнице шестерых», как назвал его Женька Кашин, настроение было грустное.
Нехотя жуя колбасу, прихлебывая остывший чай из фляжек, они говорили о прелестях земной жизни и о том, как будут жить дальше, если приведется… Это последнее «если» добавлялось просто так, чтоб не сглазить… Притерпевшись к своему осадному положению, ребята почти совсем перестали думать об опасности. Отходчив народ… Только старик Речкин, сменившись со своего «наблюдательного поста», вздыхал:
— Ох, хлопцы, еще вспомните вы свою маму…
И Павловский почему-то попросил по шахтофону, чтобы спустили шесть баллонов с кислородом.
— Воздуха не хватает? — испугались наверху.
— Пока хватает. Но мало ли что…
Это наверху понимали! И Гаврилюк сообщил, что скоро будет пробита еще одна труба.
— Зачем?
— Для сброса воды.
— Ничего… У нас мало воды.
— Сейчас мало… А потом станет много…
Это был печальный разговор. Николай пересел к Речкину, старательно перематывавшему портянки и между делом пояснявшему Женьке и Адмиралу, какая была когда-то разница между казаками и простой пехотой…
— Ну ее, пехоту!.. — грустно сказал Коля. — Давай я вам лучше расскажу… Была у меня одна любовь, когда мы стояли в городе Краснодаре…
— Ой, противно, ой, нудно сидеть и ждать: откопают, не откопают! Мысли в голову лезут, — сказал Речкин.
— Возьми колбаски, — посоветовал Женька.
— К свиньям колбасу. Надо работать! Топоры есть, руки при нас. Вон люди рубают же! — вдруг взвился Коваленко.
— То глупость, — сказал Коля. — Надо беречь силы. Пойди, Адмирал, скажи, чтоб перестали. Там Яша и Павловский.
Павловскому и Ларионову грустные мысли на ум не приходили. Сумасшедшая потребность деятельности вложила в их руки топоры. Они отчаянно рубили угольный пласт и продвинулись вперед дай бог на двадцать сантиметров.
С точки зрения здравого смысла это действительно была глупая работа. Но не такая уж она была глупая. Она утоляла жгучее желание драться — хоть топором, хоть руками, как-то драться!
И рядом зазвенел об уголь еще один топор, третий…
— Давай сюда, братик!
За его короткую жизнь знакомые по-всякому называли Алексея Коваленко: «Сундуком» и «Токарем по хлебу», а здесь еще и «Адмиралом» (он действительно служил на флоте, то есть в береговой артиллерии). Но вот так, как сейчас назвал его Ларионов, — конечно, из-за темноты, наверно, не узнавши, — еще никто никогда не звал его «Братик!».
— Это я! — поспешно откликнулся Адмирал, чтоб люди зря не ошибались. — Коваленко!
— A-а, Адмирал… Давай, братик!
Начальник участка Павловский знал каждого из подчиненных. Во всяком случае, так ему казалось. Любому он мог бы дать характеристику, не задумываясь: тот — отличный солист, но для компанейского дела не годится; другой — исполнителен, но звезд с неба не хватает; третий всем хорош, да характер тяжелый. За всеми, кроме, пожалуй, Адмирала и еще бедняги Кротова, инженер знал какие-то достоинства, какие-то недостатки, но сумма каждый раз получалась, так сказать, с плюсом.
О Кротове, целиком занимавшем сейчас его мысли, он не знал просто ничего. Пришел на той неделе рыжий молодой человек с бумажкой от Драгунского: мол, крепильщик, переведен с первой-бис по семейным обстоятельствам (квартиры не было, двое детей, а тут у жены дом). Так оно и неизвестно, что за человек Кротов.
Что же касается Коваленко, то за ним Павловский при всем своем добродушии не заметил никаких достоинств. Адмирал провел на шахте почти полгода. Вполне достаточно, чтобы узнать и оценить человека. Тем более в шахте, где все у всех на виду, где иной день месяца стоит. И вот его узнали, оценили и решили: не соответствует, надо гнать.
На шахте свой закон. Каждый человек тут, хочет не хочет, должен сдать какой-то экзамен, доказать, как говорится, свою соответственность. Ни один высокий начальник, ни один третьеклассный подсобник без этого не пройдет. Не пройдет — и все: новый человек может стать своим на шахте. А может и не стать. И решает это не процент выполнения или там добыча, а что-то другое. Человек без середки, не компанейский, не артельный, не может быть шахтером, он «коечник» — и все…
Коваленко знал, что он «коечник». Уволенный в запас офицер, он не пожелал устраиваться «в гражданке» на шестьдесят или восемьдесят целковых. Потому и пошел на шахту.
Служил он месяц, служил и три и пять. Нормы выполнял, так что придраться по-настоящему было не к чему…
Но в конце концов он решил уходить. Черт с ними, с деньгами, когда на тебя тут волком глядят. Совсем собрался уйти — и так попал, так попал! Теперь уже не уйдешь, а унесут тебя, если найдут хоть косточки…
Почему же он вдруг стал думать о вещах, не имеющих для него, Адмирала, никакого практического значения? О том, например, как к нему относится Женька… Заметил ли Павловский его работу у перемычки?.. Симпатизирует ему Яша Ларионов или это просто показалось? И в какой момент он стал все это думать! Перед смертью! Просто как в бога вдруг поверил…
Коваленко и Ларионов. Точных два полюса! Недаром у Драгунского отлегло от сердца, когда он узнал, что среди застрявших находится Яша. Тридцатисемилетний красавец с лицом мальчишки и совершенно седым чубом, он был на шахте артистом и рыцарем. Переменив десяток подземных профессий и даже побывав в малых начальниках (не удержался по независимости характера), он сделался комбайнером. И преуспел в этой профессии.