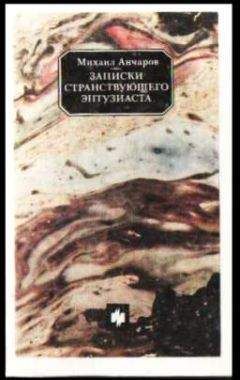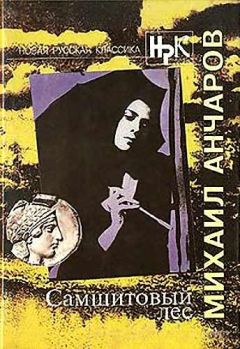Дорогой дядя, как я могу объяснить им все это, когда они заняты бульканьем, журчанием и выражают тревогу и требуют мужества и трудной работы от неграмотных в науке безоружных людей, от пехоты, от разведки, от правительства, от кого угодно, а сами боятся назвать Ферфлюхтешвайна военным преступником и Каином.
Дорогой дядя, как я могу объяснить им все это, когда я сам боюсь, что они меня уволят из Академии, а мне уже не хочется на железную кровать, и я мечтаю о мурло-парловой шубе для матери моего ребенка, законно купленной за четверть стены Кристаловой хибары. Дорогой дядя, как, не обижая их, растолковать, что живут не для информации, а наоборот. Не чтобы в лабораториях булькало и журчало, а наоборот. Дорогой дядя, как им объяснить этот «уголок», что сегодня без профессора Ферфлюхтешвайна глобальная война невозможна — у всех остальных гавриков квалификация не та.
Я не знаю подлинной фамилии Ферфлюхтешвайна, этой Продажной Шкуры, но они-то знают!
Боюсь, дорогой дядя, боюсь, что уволят, и я не смогу отменить Апокалипсис хохотом. И потом «четверть стены» задерживается, а жена Субъекта уже купила мурло-парловую шубу, питается эклерами по-флотски, а я все еще сижу на фрутазонах.
Мне говорят, что Эйнштейн настаивал — надо бы мыслить по-другому, надо воображать другое, тогда другого и захочешь. Уйду я от них.
- Уходите? — спросил Субъект. — Жаль.
- Да, — говорю, — ухожу.
- Куда ж вы теперь?
- Не знаю, — говорю. — Может, опять в театр к Джеймсу. Театр я знаю неплохо. За свою жизнь бывал в нем не раз. А два раза. И оба раза удачно — показывали одно и то же.
- Театр — это кафедра, — назидательно сказал он. — Театр — это трибуна.
- Ага, — говорю. — И я так думаю. Помолчали.
- Чем же вы там будете заниматься?
- Тем же самым, — говорю. — И если вы правы насчет числа «пи», я буду исследовать вакуум любовью. Может быть, он откликнется.
- Желаю вам счастья, то есть неожиданной удачи, — сказал он. — Я теперь не занимаюсь числом «пи», я занимаюсь динозаврами.
- Вот как? — говорю.
- Мне кажется, они вымерли от гриппа, — задумчиво сказал он. Уйду я от них.
Глава вторая. Возвращение в будущее
Дорогой дядя!
В сутках двадцать четыре часа. Человек трудится, спит, бодрствует. Но живет все двадцать четыре часа. Остановка — смерть. Человек не машина, его не выключишь. Но от работы к работе, от сна к сну, от отдыха к отдыху человек еще и меняется. Вдох — выдох. Вдох — выдох. Но забывают о паузе перехода. Когда вдох затухает, но еще не стал выдохом, и когда выдох затухает, но еще не стал вдохом.
Поэтому на самом деле все происходит так: вдох — пауза — выдох — пауза.
И в этих паузах перехода происходит развитие, от вдоха до выдоха и от выдоха до вдоха человек уже другой — телом, разумом… А духом? Вот этой самой «психе»?
Мы знаем одно — тысячи лет знаем, — что в паузе перехода, любого — верхнего, когда кончается вдох и еще не начался выдох, или нижнего, когда выдохнул человек и, опустошенный, еще не начал вдыхать и восходить вверх до пика своего вдоха — в этих паузах перехода он должен быть «восхищен», то есть как бы «похищен непомерно» мгновенной верой в то, что выше его сиюминутных, каждодневных качелей, то есть восхищен ощущением связи со всей жизнью в целом.
Значит, должны существовать и люди, которые умеют и хотят вырабатывать «духовную пищу» так же, как другие вырабатывают телесную. Потому что одни без других жить не могут. И это не метафора, а буквально так.
Ну а жрецы жрут и тех и этих, как сказано, бесплатно и без очереди.
Поэтому они так нервничают, когда производящие два эти вида пищи начинают восхищаться друг другом.
16Дорогой дядя!
Этот палаточный женский городок переменил все мои планы, и я махнул в Штаты. Я в Америку залетал лет десять назад. Она сильно изменилась. Первый раз я ездил смотреть секс-революцию, смотрел порно-фильмы, про гангстеров и сюрреалистических ковбоев, был в музее Гугенхейма — обычный маршрут для меланхоликов. Теперь я прилетел туда с другой целью. Поглядеть, так сказать, динамику заболевания.
С первой секунды стала видна разница — пыльно, сумрачно и грязней.
Эти письма из Америки отрывочны, я сознаю это. Но сориентироваться невозможно. Тут все так быстро происходит, как будто боятся, что обнесут тарелкой.
Остальные впечатления пропускаю. Сразу о бумажной войне. Дело начал Плотоядный любитель фрутазонов, помните? Помните? Муж смеющейся старухи.
Я нашел его в ужасном состоянии. Он грыз засохший фрутазон, подаренный еще Ралдугиным, и рычал, что он еще покажет «Kuskinu mat» — непереводимая игра слов, и говорил другие американские идиомы, из которых наиболее миролюбивым был — «К edrene fene».
Дело обстояло так: он написал книгу, где развивал открытие некоего Джеймса Ралдугина насчет особенности смены формаций — та страна, которая дольше всех задерживается в одной формации, с разбегу перескакивает через очередную — в следующую за ней. Плотоядный начал с сенсационного заявления, что Киноартист[1] — ставленник Москвы. И, далее развивая мысль, доказывал, что Америке грозит не социализм с его государственной дисциплиной, а именно коммунизм, где личная инициатива в рамках плана — станет жизненно необходимой. В Америке материальная база коммунизма уже есть — развитое производство, чего не было в России в 1917, а личная предприимчивость традиционна. И человек, который ради выпуска неходового товара — ракет, нелепых, когда все видят, что противник первым не кинет, а кто бы ни кинул, конец один — человек, который для поддержки убыточного производства грабит собственную казну, такой человек неминуемо ведет к революции. И притом, именно к коммунистической. И значит, работает в интересах Москвы.
Книга стала мгновенно бестселлером и пошла нарасхват. Издательство расширило производство.
Америка хотя и привыкла к теориям, начала смеяться, но при этом поеживалась. Потому что профессор Ферфлюхтешвайн не дремал и написал опровержение — сначала в прессе, а потом куда следует. И Плотоядного вызвали в комиссию.
Но с ним оказалось все не так просто. Его спросили напрямик:
- Вы поддерживаете главные тезисы своей книги, как-то: первый — личная инициатива в пределах общей собственности есть коммунизм, и второй — в Америке социализма не будет потому, что она сразу проскочит в коммунизм, как запоздавшая.
- Конечно, — сказал он. — Но я не коммунист. Я член Клана. На него затопали.
Когда же узнали, что Плотоядный действительно член Клана[2] и занимает должность «Заместителя Младшего Крокодила» — специалиста по смуглым душам, то смутились. А вдруг этот «Крокодил» действительно раскопал, что Киноартист — тайный коммунист? Мало ли? Береженого бог бережет. Ведь Киноартист так лихо грабит государственную казну… Почему это он такой ретивый?.. Почему… Ну, почему? С этого момента участь Киноартиста была предрешена. И «Гешефт-Махер-Компани» первая же отказалась его финансировать.
А с другой стороны, и в книге Плотоядного было много сомнительного. Откуда он так знает про формации? Зачем ездил в Москву? Почему посещал сексуального гангстера Ралдугина? Чтобы есть фрутазоны? Что, у нас своих нет? А почему эклеры именно по-флотски? Сомнительно, очень сомнительно. И с этого момента участь Плотоядного тоже была предрешена — Клану даны были деньги — и у Плотоядного была отыскана негритянская кровь.
Но поскольку все же, если один из них был прав, а другой не прав, то решили убрать обоих.
И сколько разведка ни клялась, что оба они — и Киноартист, и Плотоядный — чисты, это уже дела не меняло. Паника не разбирает.
Тем более что многие смуглые души стали еще громче петь псалмы и послали привет Плотоядному Брату. И дело перекатилось на национально-религиозную почву. И стало ясно, что без специалистов по душе народной и специалистов по высшим силам не обойтись.
Прекрасная мысль? Прекрасная. Но слишком медлили. Бюрократы! Потому что тут в самый неподходящий момент была анонимно издана злопыхательская книжонка, где описывалась сегодняшняя ситуация под видом религиозного диспута между капуцином-католиком и раввином-сионистом пред лицом прекрасной принцессы-молодки. И примечательно, что когда ее спросили, кто прав, то красавица ответила примитивными стишками, которые доказывали только бездарность автора, некоего Гейне, и его дремучее невежество в эстетике. Поскольку в этих виршах не было — ни живого описания природы, ни метафор, ни пафоса, ни священного безумия поэзии, о чем знал еще Аристотель, специалист «по уже написанным трагедиям», а была только наглая ухмылка человека без корней и желание столкнуть две духовные ориентации в кровавом навете на обе религии. Но сколько ни бушевала эстетика и критика, ничего не поделаешь — ответ красавицы вошел в моду. А с модой кто может бороться? И трезвые люди, достойные, до этого момента надежные граждане, стали повторять ответ белогрудой глупенькой принцессы: Кто тут прав, кто виноват — Пусть другие то решают. Но раввин и капуцин Одинаково воняют.[3]