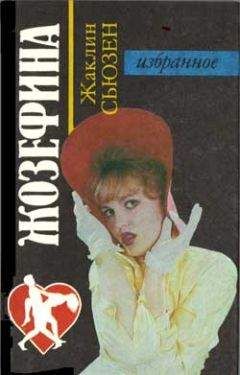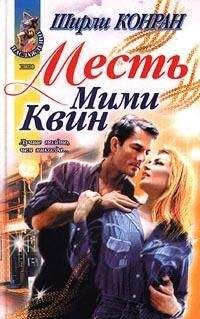Очищен. Отмыт. Элоди унесло. Она больше не существует. Отныне мои мозги свободны, и я концентрируюсь на одной идее: убраться отсюда.
Суччивор говорит:
— Хорошо. Я вас оставляю.
Она разрешает:
— Иди, милый.
Черт, она никогда не говорила мне: "Иди, милый"! Если бы она это сделала, это сразу же открыло бы мне глаза. Ничего не скажешь, у нее врожденное чувство того, что следует говорить каждому. Суччивору — "Иди, милый!". Мне просто взгляд, но пристальный, сулящий неведомые сокровища… Да, ловко у нее получается! Поразительно, сколько начинаешь понимать, как только перестаешь быть влюбленным! "Иди, милый!"… Это невероятно!
Суччивор на прощанье влепляет ей поцелуй, жадную прочистку миндалин, которая вызывает у меня тошноту, затем, повернувшись ко мне, испытывает мгновенное колебание. Я понимаю, что он спрашивает себя, пожать ли мне лапу по-мужски или, того лучше, закатить поцелуй любовного братства — что подразумевает наше слияние в поклонении одному божеству и по этой причине, почему бы и нет, неоднократную возможность, отправившись в путь, каждый со своей стороны дамы, встретиться на полдороге, я хочу сказать, посредине туннеля, — но он останавливается в конце концов на неопределенной невероятно фальшивой гримасе, а затем протискивается между Элоди и дверью, которую приоткрывает, чтобы выскользнуть наружу.
Я между тем созрел. Вырвавшись из Элодиевых объятий, плечом отталкиваю Суччивора, вылетаю на лестницу и мчусь вниз, перепрыгивая через четыре ступеньки, будто спасаясь от пожара.
Я ожидал криков, преследования. Но нет. Она крикнула один только раз:
— Эмманюэль!
Потом спокойно бросила:
— Ты вернешься. Я жду тебя.
Как же, держи карман! Я убегаю, только меня и видели.
В первый раз я разлюбил. До сих пор моя страсть к женщине могла идти только в одном направлении: расти. Даже если терялся контакт. Любовь продолжала расти и становилась все прекраснее. Огонь под пеплом. Всегда готовый вспыхнуть снова. Таким образом я набрал целый гарем, который греет мою душу, даже если жестокие воспоминания занимают там больше места, гораздо больше, чем счастливые, потому что счастливые моменты настолько прекрасны, что счастье просто затапливает меня, когда я вспоминаю о них. Однако жестокие воспоминания — это тоже воспоминания. Самое большое несчастье — вовсе их не иметь.
Я люблю женщину во всех женщинах, моя способность любить ограничивается лишь женщиной, женщина заполняет меня до краев. Ребенок не предусмотрен. Заниматься любовью значит заниматься любовью, вот и все. Мысль о том, чтобы произвести на свет ребенка, мне и в голову не приходила. Вид беременной женщины возбуждает во мне жалость и одновременно тошноту. Когда Агата носила Жозефину, я не видел ничего, кроме чудовищного живота, готового лопнуть, чрева, где зрел паразит, как червяк в яблоке. В то время как Агата, выгнув поясницу, животом вперед, с серым лицом переваливалась, наподобие утки, гордая сознанием своей миссии: она носила человеческое семя. Священное! Тут не займешься любовью.
Но что странно, женщина, которая уже стала матерью, становится привлекательной. Послеродовые рубцы на теле умиляют меня и даже возбуждают. Я ласкаю, облизываю их, эти стигматы, свидетельства перенесенных мук…
Еще более странно, что я люблю свою дочь. Когда она родилась и была мне навязана, я испытывал только отвращение к этому куску багрового мяса, от которого исходили крики, слезы, писи и каки. Никакого инстинкта защиты по отношению к этому средоточию неприятных ощущений у меня не было. Но тем не менее я героически играл роль отца. Вовсе не Жозефине суждено было разлучить нас с Агатой. Отцовская любовь или, скажем скромнее, интерес к дочери пробудился во мне и намного позже, когда Жозефина начала приобретать человеческий облик, я хочу сказать, женский. О, в этом нет никакой патологии. В любом случае не больше, чем у "нормальных" папаш, которые замечают, что у их дочек начинают расти груди.
Итак, я больше не люблю Элоди! Совсем. И, никогда бы не подумал, испытываю от этого облегчение. Освобождение. Небо в моем распоряжении и вся земля тоже! Я птица. Птица, которая во весь дух летит к Лизон. Птица, у которой с головой все в порядке. Сумбурные сомнения и парализующие угрызения совести — все рассеялось, пока я сбегал по лестнице. Лизон, любовь моя, жди меня! Я бегу. Ты же знаешь, что я бегу к тебе, правда? Ты знаешь все, всегда…
Я резко останавливаюсь посреди тротуара. Где она живет? Только сейчас я осознаю, что у меня нет ее адреса. Даже телефона. Ведь звонит всегда она, мы встречаемся всегда у меня… Я вхожу в первое же подвернувшееся бистро, спускаюсь в подвал, где, маринуясь в традиционной вони застоявшейся мочи, соседствуют туалет и телефон, набираю двенадцать, к счастью, я знаю фамилию — только бы Изабель не поместила номер в красный список! И моментально получаю информацию, с тех пор как у них появился "Минител", справочные больше не загружены, но я не решаюсь позвонить, в конце концов, говорю я себе, лучше прямо пойду туда, сделаю ей сюрприз.
Они живут на одной из очаровательных старых улочек Марэ, в одном из старых очаровательных строений, бывших аристократических особняков, с небрежным шиком подновленных декораторами-педиками — пардон: педиками — архитекторами интерьера, — с монументальной лестницей, камень и кованое железо с завитушками, идешь и путаешься в ступенях, потому что они слишком низкие — наши предки, принцы крови, должно быть, были довольно коротконогими. В таких домах люди, к которым вы пришли, почему-то, как правило, обитают на самом верху.
Я взбираюсь на вершину и с колотящимся сердцем, не только из-за спотыкательных ступеней, нажимаю на кнопку вычурного звонка в стиле Людовика XIV, после чего где-то в глубине раздается музыкальный звон в стиле универсального магазина. Женские каблучки стучат по паркету с другой стороны двери. Лизон? Дверь широко открывается. Нет, Изабель.
Которая, увидев меня, смущается. Бормочет:
— Это вы?
Смешивается, еще больше смущается:
— Простите… Я думала, что это Лизон.
Я тоже смущен не меньше ее. К счастью, у меня есть повод сказать:
— Сожалею… Значит, у Лизон нет своего ключа?
— О, она часто забывает его. Вы ее знаете…
Еще бы я ее не знал! И если бы ее мамаша знала, насколько и как я ее знаю! Изабель, судя по всему, подумала то же, что я, и в то же время, потому что она краснеет и приходит в еще большее замешательство:
— Да… Вы… Вы хотели с ней поговорить?
Это несовершенное прошедшее время, использованное вместо настоящего, звучит во всем моем существе как боевая тревога.
— Вы не знаете, скоро она придет?
— Она мне ничего не сказала.
Мадам мамаша, кажется, преодолела свое смущение. Она находит подходящую форму вежливости:
— Но, прошу вас, входите.
— Я вас не побеспокою?
Я сама любезность времен регентства.
Она переходит к простому приятельскому тону:
— Пожалуйста, Эмманюэль, входите. Мы подождем ее вместе.
Я вхожу. Богемный интерьер хорошего тона. Есть друзья-художники. Бываем на блошином рынке. Бегаем по лавкам подержанных вещей. Поступаем так, как будто все это не принимаем всерьез. По сравнению с современным кичем дурной вкус наших дедушек вызывает лишь снисходительную улыбку, в то время как на другом конце спектра глупости отсутствие вдохновения прячется под маской "модернового" перегиба. Бронзовая нимфа Всемирной выставки 1880 года выставила свои пышные ягодицы перед гигантским полотном тошнотворной мазни, прикидывающейся авангардом из авангардов… То и дело вы натыкаетесь на старую потрескавшуюся балку из цельного дуба на чисто белом фоне, приходится нагибаться, распрямляться, все равно стукаться, сдерживаться, чтобы не проклясть все на свете… Короче, это классический чердак "с бору по сосенке" с интеллигентско-артистическими претензиями, это ужасно, это трогательно, это интимно, это тепло и это пахнет хорошо вымытой женщиной.
Это пахнет женщиной до такой степени, что у меня кружится голова. Сам не знаю как, но я обнаруживаю себя развалившимся на чем-то очень мягком на уровне пола, а мои глаза находятся на уровне колен Изабель, которая устроилась на оттоманке — думаю, что это оттоманка, — целомудренно подогнув ноги под себя. Видны только ее прекрасные круглые колени, и ничто не заставляет хорошо воспитанного визитера догадаться, что они, эти колени, соединяются с восхитительными икрами и роскошными бедрами. Для этого надо иметь очень извращенное воображение.
Сейчас она предложит мне чаю, я чувствую это.
— Хотите чашку чаю? — говорит она.
Задушим светские церемонии в зародыше.
— Изабель, между Лизон и мной произошло нечто ужасное. Ужасно дурацкое. Дурак — это я. Мне совершенно необходимо немедленно увидеться с ней. Если вы знаете, где она, если у вас есть хоть малейшее представление о том, где она может быть, прошу вас, скажите мне.