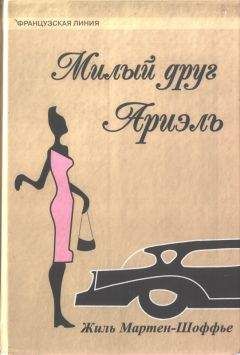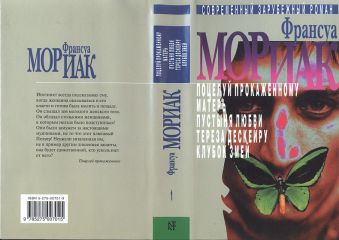Я говорю вполне серьезно: Канны сводят людей с ума. Боже, как я тосковала по острову Монахов! А еще больше по Фабрису. Вернувшись в «Eden Roc», я тут же позвонила ему. Он уже давно спал, и я поговорила с ним тихо-тихо. Ибо единственное, что можно было делать в этом отеле, похожем на дворец Гэтсби, — это шептать нежные слова при свете луны.
За час до моей встречи с Пиво мать позвонила мне, наверное, в тридцатый раз за неделю. Она все еще не могла успокоиться: мои каннские высказывания совершенно не удовлетворили ее.
— Подняться по ступенькам Дворца и бросить пару остроумных словечек — разве такова была наша цель? Ты поехала туда, чтобы уничтожить человека, виновного в смерти твоего отца. И если ты сейчас собираешься на телевидение, чтобы покрасоваться на экране, это ничего не даст, а главное, не поможет восстановить нашу репутацию. Твоя задача — сокрушить Александра. И смотри не забудь фразу, которая убьет его. Произнеси ее четко и ясно.
Оспаривать указания матери было бесполезно. Я обещала все выполнить и попросила ее дать мне время для подготовки, что на моем языке означало «причесаться». В отношении беседы я всецело полагалась на Пиво и не собиралась гадать, о чем он будет меня расспрашивать. Зато я уже целую неделю терзалась сомнениями по поводу своего обличия. Что надеть — черное или белое, кожу или кружева, платье или костюм, в полоску или в горошек, нарумяниться или напудриться, обнажить плечи или ноги?.. Я замучилась вконец, решая эту проблему. И никак не могла выбрать подходящий имидж: предстать перед зрителями в роли весталки или роковой женщины, ангелицы или дьяволицы, красавицы или бунтовщицы, в духе «черной серии» или эдакой Коломбиной? Наконец я нашла самый простой выход — позвонила Джанфранко. Заполучить его по телефону было не просто: он, как и другие, бегал от меня. Но когда я все же пробилась к нему, он сразу стал прежним Джанфранко — очаровательным и ласковым. Собственно, я многого у него и не просила — только невозможного.
— Это совсем легко: мне нужно выглядеть надменной, как Шэрон Стоун, и скромной, как герцогиня, для которой все случившееся в порядке вещей. Тебе ясно, что я хочу сказать?
— Все ясно, милочка: надо, чтобы ти иметь круглий вид, но чтоби все тебя видеть квадратний. Это називаться кубически силуэт. Элементарно! Один маленький подвеска типа крестик между грудьями, и ти иметь вид Жанна д'Арк — на костре, натурально.
Я его знала сто лет. Он обожал играть словами и вообще молоть языком, но при этом умел одеть миллионершу как светскую даму. Именно это мне и требовалось: я решила с первой же минуты доказать зрителям, что из нас двоих настоящим парвеню был Александр. И что это не я захомутала министра, а он удостоился благосклонности девицы из знатной семьи. В результате я пришла на передачу «Бульон культуры» в сером костюмчике — и всё. Настоящая святая, вылитая Мария Магдалина. Мой наряд сидел на мне как влитой: ни грамма жира под кожей, ни миллиметра лишнего между кожей и тканью. Интеллектуальным зрителям трудно было бы смотреть мне в глаза: на моей груди, как на светлом бархате, сверкало, притягивая свет, маленькое бриллиантовое распятие. Джанфранко пороха, конечно, не выдумал, но по части скромненьких разорительных костюмчиков ему не было равных. Я выглядела безупречно. И в качестве последнего знака внимания с его стороны он потребовал, чтобы я взяла с собой лучшего гримера фирмы Dior.
— Это необходимо, милочка. Иначе эти девьицы с телевидения наложат на тебья штукатурки, как крема на пирожное. Они же настоящие мальяры!
Я уступила, он прислал мне своего любимчика Лоренцо, и, когда я вошла в студию с эскортом из Фабриса, Симона и этого мальчика, воцарилась мертвая тишина: на сцену явилась звезда. Моя гипотетическая виновность больше никого не волновала. Отныне зрителю предстояло судить лишь мою игру. И вот доказательство: Пиво усадил меня справа от себя, это было почетное место. На вторые роли он пригласил ветерана Индокитая, замешанного в путче алжирских генералов, преподавателя фотогеничной философии — участника процесса по делу Барби — и английского журналиста, корреспондента «Guardian», который, как истинный продукт Кембриджа, ухитрялся выглядеть одновременно и непринужденным, и высокомерным. Мое появление в гримуборной он встретил улыбкой, приветливой, как тюремная решетка, — сплошные зубья и ледяной холод.
Нам предстояло беседовать о цивилизации, а именно: «Остается ли Франция Францией?» Меня несколько тревожил преподаватель-философ. В моей книге не говорилось о бедняках, о маргиналах и о сексуальном рабстве, а он кичился тем, что защищает слабых (дабы искупить свою любовь к жизни среди богачей). А вдруг ему вздумается выместить на мне свое ренегатство? Но Симон отмел мои страхи:
— Не обращайте на него внимания. Можете даже не отвечать ему. Он импозантен, он прекрасно говорит, то и дело мелькает на экранах, поэтому телезрители будут относиться к нему с подозрением. В глазах публики добродетельная личность — это отнюдь не рупор истины. Стоит Бюиссону открыть рот, как все тут же насторожатся. Каждый почует, что такой персонаж проводит свою жизнь в обществе Дармона и компании. В любом случае знайте: он не любит дискуссий, где ему не дают разглагольствовать в одиночку. И не станет «цеплять» вас, чтобы не делиться лаврами звезды. Тем более что вам предстоит выступить первой. И он будет осторожен: вдруг вы потом захотите ему отомстить.
Несмотря на внешнее спокойствие, я чувствовала себя кошмарно. За весь день я только и съела что пару яблок. Будь в моих силах перехватить камень, запущенный Симоном, я бы давно сбежала на свой остров Монахов. Когда меня усадили перед камерами, мне стало совсем скверно, во рту дико пересохло, в голове стоял гул. И уже казалось невозможным гордо выдавать свои пороки за добродетели. Все мои старательно заготовленные аргументы улетучились, как дым. К счастью, Пиво это сразу углядел. Точно добрый придворный аббат, чье назначение — ласково отпускать грехи, он побоялся, что моя исповедь будет плохо слышна, и велел принести графин с водой. Затем с милой улыбкой, скользя взглядом по своим записям, своим гостям и моим голым коленкам, начал расспрашивать меня о работе в агентстве. Три любезные фразы, естественный приветливый тон — и я уже вздохнула свободно, как будто в комнату впустили свежий воздух. Сейчас должен был начаться обычный театр — пьеса с парижским словоблудием, где не хватало разве только звона бокалов с шампанским, и я воспрянула духом. К началу передачи страх мой окончательно улетучился. Я даже посмела одернуть Пиво, когда он сообщил аудитории, что на заре карьеры я была моделью:
— Топ-моделью! Это большая разница. Я дважды участвовала в дефиле Сен-Лорана, но, главное, позировала для десятков страниц каталога «Редут». Если бы вы назвали моделью Клаудию, она бы тут же с вами распрощалась. Притом навеки! Может быть, я написала свою книгу именно потому, что никогда не снималась для журнальных обложек. Чтобы наконец прославиться.
Хорошенькая женщина, вполне убедительные высказывания — и вот Пиво уже очарован. Мне даже показалось, что сейчас он придвинется ко мне поближе. Ничуть не бывало. Свои симпатии он выражал чисто по-свински. И, решив всласть поизмываться надо мной, мгновенно сменил правила игры. Вместо того чтобы начать, как было предусмотрено, с «Милого друга Ариэли», он заговорил о книге, написанной полковником де Мондрагоном, пожилым воякой в духе Старой Франции, который облобызал мне руку, когда его пресс-атташе представила нас друг другу. Если не считать этой маленькой любезности и упрямой склонности к французским грамматическим анахронизмам, его можно было бы скорее отнести к Старой Пруссии. Рядом с ним даже Эрик фон Штрогейм показался бы женоподобным[107]. Его челюсть и ту словно выковали в арсенале: тридцать два клыка, один в один. Я уж не говорю о шевелюре: этот седеющий ежик волос казался бронированным. Вооружившись непробиваемыми принципами, он начал медленно, по пунктам, вещать о своей любви к отчизне. Бедняга родился в неудачное время, когда защита Франции свелась к убийствам вьетнамцев и зачисткам в селениях Ореса[108]. Родину он ставил выше правосудия. И в результате позволил втянуть себя в путч, после чего ему пришлось осесть на пляжах Марбельи[109]. Там он возомнил себя кардиналом де Рецем[110] и разродился мемуарами, которые Пиво превозносил до небес. В его изложении любовь к Франции выглядела уже не архаикой, а прямо какой-то сказкой. Я еще до такого не дошла. Эти воспоминания бравого солдата навеяли на меня тоску. Моей Францией были Джанфранко, Кензо, Гальяно или Валентино, а не напалм и горящие рисовые поля. Со мной бесполезно говорить о героизме и дисциплине, об отваге и воинской славе. Родина для патриотов — все равно что церковь для святош; и то, и другое не предвещает ничего хорошего. Я решила не встревать и оставить эти соображения при себе, но Пиво посчитал необходимым приобщить меня к этой «Марсельезе»: