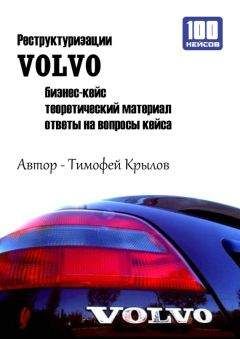Наденем очки автора, сядем за его стол и взглянем на его книги его глазами. Приложим линейку «настоящей литературы» (см. три абзаца выше). Но если вторую сотню лет читают, и экранизируют, переиздают и переводят, и музей Холмса на Бейкер-стрит 221-б, – может, линейка неправильная?
Сто лет пишут детективы бесчисленные подражатели, достигая порой самостоятельности и даже славы – а второго Холмса нет и не предвидится. И уже не читают Байрона, и полузабыт Теккерей, и редко кто откроет Диккенса – а Холмс, высокий, тощий и жилистый, в облаке табачного дыма, с лупой в руке и реже револьвером в кармане, и скрипка, и морфий, и женоненавистничество с единственным исключением, и т. д. известно всем – живет в любви народной.
Не всегда знаешь, где ждет тебя феномен истинной удачи.
Если бы Конан Дойль потратил все силы жизни на создание идеальных произведений о сыщике – он бы не написал лучше того, что есть. Рассматриваем и судим произведение по его собственным законам – внутренним, жанровым, законам самоорганизации материала (подобно законам синергетики), по тем законам, которые результатом своего действия имеют высочайший эффект литературной (и шире – вообще культурной) живучести и читаемости. И получаем забавное.
Шерлок Холмс – истинный литературный шедевр. Совершенство.
1. Тайна, которую раскрывают.
2. По личной склонности и свободному согласию, а не из служебного долга.
3. Живой быт подан скупыми точными штрихами.
4. Лаконичность! Ныне, век спустя, писатель растягивает сюжет любого такого рассказа на роман – для коммерции: льет воду, размешивая в ней лишнюю белиберду из «жизни вообще».
5. Простой точный язык. С элементами «рымантического штиля».
6. Расклад героев. И вот это тут главное, и этому невозможно подражать, потому что сразу получится откровенное эпигонство:
А). Холмс предельно привлекателен. Высок, худ, при этом на самом деле очень силен, чего внешне не видно. Флегма, ледяное спокойствие – и протуберанцы скрытого темперамента. Никогда не теряет самообладания. Абсолютный одиночка – при этом абсолютный лидер в любых контактах. Контролирует любую ситуацию. То есть: несколько замаскированный супермен. Суперменство балансируется некоторой чудаковатостью. Достоинства – балансируются такими недостатками, как склонность к наркомании, хандре вне дела, приступами ненапыщенной и даже простодушной хвастливости. Эрудиция в своем деле – и доходящее до смешного невежество в некоторых общеизвестных областях. Язвителен, ироничен, иногда валяет дурака – и всегда оказывается прав, выставляя дураком оппонента: эдакое сократовское начало. Блестящий стрелок. При этом изящное и даже неожиданное стороннее увлечение: меломан. Жизнь и людей знает, понимает, «видит насквозь» – оттенок печального многомудрого цинизма. При этом женщин побаивается, не знает, не понимает, чуждается – при своей явной привлекательности (о ней прямо не говорится ни слова, образ не переслащен, это очень важно!). Герой с горчинкой, со щербинкой. По-парфюмерски: духи горьковатые, чуть пряные, неброские, но очень стойкие, аромат очень явственный, но неназойливый, абсолютно индивидуальный и сугубо мужской. Цепок, последователен, беспощаден в деле – но справедлив и благороден превыше всего и без рекламы, невольных и по сути правых преступников отпускает. Проницателен и умен дьявольски. И вообще «характер твердый, нордический».
Черт возьми. Да создать такой образ – это уже акт литературного гения. Конан Дойль сработал так, что все прочие сыщики Холмсу в подметки не годятся!
Б). Так и этого мало! Введение Ватсона – вот гениальная удача! Сугубо положителен, честен, простодушен, верен – вторая половина по сути единого героя!
Его служебная роль неоценима. Он оттеняет все достоинства Холмса – одновременно комментируя их, критикуя или расхваливая, оценивая, пытаясь постичь и понимая не сразу. Его наличие сразу дает возможность и мотивирует любые замедления и ускорения повествования и действия. Он пропускает одно – которое всплывет потом и бросит новый свет на все происшедшее, – и обращает углубленное внимание на другое, в угоду автору.
И едва ли не главное – это он рассказывает все истории, не будучи писателем: оправдан любой ходульный оборот, любой разговорный «рымантизм» оказывается уместным – а чистому, простому и точному литературному стилю это тоже не противоречит.
Наличие Ватсона автоматически позволяет давать экспозицию каждой вещи, настроение зачина.
Его сугубая британская нормальность подчеркивает анормальности Холмса – они предстают как под увеличительным стеклом, в которое смотрит глаз «обычного человека».
Наличие «промежуточного и действующего рассказчика» создает рассказ в рассказе, на порядок обогащая произведение. Взгляд автора, принципиально дистанцированного от него рассказчика и самого героя, сменяя друг друга и то сливаясь, но вновь разъединяясь, дают сложную трехплановую композицию.
И все это сложилось без мучительных поисков, проб и конструирований, а «само собой» у нашего доктора.
Ну, а про «радость узнавания знакомых персонажей», «получение ожидаемого» и прочее – литературоведы уже более или менее написали.
Не стоило вам гневить Господа нашего, мистер Конан Дойль, и пытаться принизить собственное детище. Иногда шедевр долго не просматривается самим автором в своем творении, так незатрудненно родившемся.
Вряд ли мы уже когда-нибудь узнаем, какова была доля личного авторства Дюма в прославленнейшем из романов XIX века, а какова доля соавторства кого-либо из его многочисленных помощников и негров. Но любой может перечитать «Трех мушкетеров» внимательно с любого места – и убедиться, что эта книга Дюма не такая, как все остальные из-под его пера.
Она легче читается – а по толщине принадлежит к обер-размерным кирпичам. Она интереснее – а сюжет свинчен отнюдь не наилучшим образом и в узлах просто рассыпчат. Чтение ее доставляет большее удовольствие – а между тем мы не знаем даже из нее, какого цвета были плащи у мушкетеров, и сколько человек было в их роте, и в чем, собственно, заключалась их служба – кроме фланирования у дворца и мельком упомянутого хождения в караул.
Зато – зато – она насквозь иронична и легка, легка! Приподнятый романтизм подан с улыбкой скептика и мудреца, откровенно развлекающегося условностью собственного текста. Автор парит над героями и дружески подмигивает читателю: мол, мы-то с тобой понимаем, что все это романтика. Жестокий мелодраматизм ситуаций и фраз сплошь и рядом граничит с самопародией, юмор брызжет (так и хочется сказать: «как шампанское!»).
«Увидев эти яства, мэтр Кокнар закусил губу. Увидев эти яства, Портос понял, что остался без обеда». «Разучилась пить молодежь, – с сожалением заметил Атос. – А ведь этот еще из лучших». «Посмотрите только на эту лошадь, Арамис! – О, какая ужасная кляча, – сказал Арамис». «Четыреста семьдесят пять ливров! – сказал д’Артаньян, считавший, как Архимед (цифра изрядно ошибочна)».
Авторский посыл радости, веселья и шутки всегда передается читателю – даже если последний не отдает себе в этом отчета.
Но речь-то в книге идет о вечных и бесспорных ценностях: дружбе, любви, чести, верности, храбрости, благородстве. И авторская неназойливая улыбка только оттеняет их; пространство между автором и его героями придает им объема.
Вот в этом воздухе, этом добром и улыбчивом пространстве авторского взгляда между ним самим и его героями – суть, ключ и секрет необыкновенной привлекательности романа.
А поскольку умный, толстый, жизнелюбивый Александр Дюма был хороший писатель – он искренне сопереживает героям, любит их и жаром собственной души делает живыми. Недаром, недаром он плакал над собственной книгой в последний месяц своей жизни. Не всегда, совсем не всегда он относится к своим героям с иронией. (Так ироничный человек, вечно прикрывающийся шуткой, иногда отбрасывает охранительные условности своих выражений – и обнажается любовь пронзительной искренности и силы. Кого люблю – над тем посмеиваюсь.)
(Рискну сказать, что «Три мушкетера» не чужды того ключа, который почти век спустя стало можно бы назвать «чаплинским».)
Вот это ироническое отношение к описываемому, отнюдь не отменяющее, но оттеняющее мелодраматизм происходящего – ни в одном другом романе Дюма не встречается. Отсутствует напрочь. Местами они даже удручающе серьезны, и сегодня начинают попахивать длиннотой и скукой.
Эта эстетическая неодномерность, неоднозначность, объемность «Трех мушкетеров» практически не отмечается читателем – но поднимает удивительную энергетику, светлую энергетику книги – живой и славной уже более полутора веков.
Черный Принц политической некрофилии
Один знаменитый журналист начал статью о другом знаменитом журналисте так: «Передо мной стоит почти невыполнимая задача – написать о г-не Н., ни разу не употребив слова „гнида“». Ударный зачин долго смаковали.