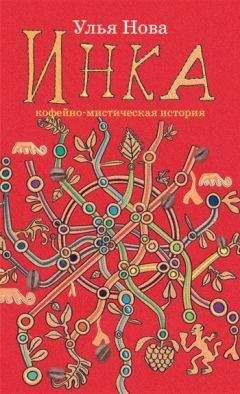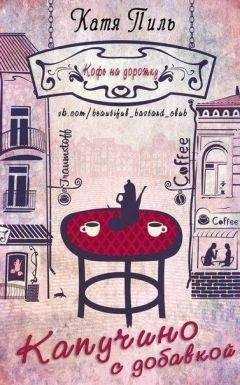Инка едет в набитой битком машине Человека-Краба, молчит, слез на ее лице не видно – слезы текут по внутренней стороне Инкиной души, и благородный Виракоча бьется там же, в дожде и сырости. Довольный уже тем, что удалось вовремя, удачно и без драки унести ноги, а также тем, что ничего ценного не оставлено на радость чужакам, Человек-Краб поглядывает на Инку, догадываясь, какие горечь и опустошение скрывает она под спокойным взглядом, обращенным за окно. Инка проносится по проспекту, прыгает глазами с дома на дом, она оплакивает то время, когда все было веками неизменно, а булочная и галантерея были всегда, железно, в доме напротив. И парикмахерская никуда не переезжала, а оседло брила и стригла всех внутри неприметного низенького здания, и прачечная, та, у которой отнял помещение Писсаридзе, годами обстирывала людей. А теперь все сдвинулись, все потеряли места, стали кочевниками, скитаются бесприютные, обреченные на вечные странствия среди домов-времянок, среди городов, сел и стран. Нет покоя и нет тишины. Так думает Инка, горестно поглядывая на свой живот, и грустит об участи того, кто в нем безмятежно шевелится и пихается плечиком изнутри.
Человек-Краб перехватил ее взгляд и прочитал все, что нужно, по Инкиному лицу. Обходительный, Человек-Краб тихим голосом аккуратно нарушает раздумье, справляясь, не дует ли. Инка отрывается от заоконных пейзажей, светит в лицо хозяину благодарностью за его доброту, отвечает, что все хорошо, улыбается без тени улыбки, а сама душит в груди растроганные рыдания и скорое прощание приводит ее в отчаяние. Чувствуя в ее глазах дождь и осенние тягучие дни, Человек-Краб понимает, что момент бабочкой опустился на ладонь, надо момент не спугнуть, надо его скорее ловить, сейчас или никогда. Скромный и сдержанный, малословный Человек-Краб вдруг побеждает робость. Его песнь изумляет Инку неожиданным своим рождением. Изумляет и открытие. Вроде бы этот аккуратный человек, бывший хозяин, фантазер, путешественник был до сего дня еще и удачливым бизнесменом, но не все потеряно, у него еще две крошечные кофейни в подвальчиках и какой-то туманный интернет-магазин. Вроде бы этот человек, как странник по болотистой местности жизни – боязлив, осторожен и хваток. Он несется по городу со скоростью 75 км/час, спасается от быкадоров, а сам признается, что Инка – Единственная и Высшая, что он, как маленький атолл Тихого океана, ложится к ее ногам, приносит свои богатства на ее корабли, почтет за честь внести ее в свой дом и усыновит того, кто лягается и зреет в ее теле. Так пел Человек-Краб, и его лысина жалобно поблескивала испариной, и глаза блестели накатившей слезой. Изумленная и растроганная Инка молчит, чувствует она то, что чувствует путешественник, который ехал в Китай, а попал на незнакомый чудной остров, и бродят там не китайцы, а неведомые дикие звери и в зарослях поют незнакомые птицы. Машина несется по городу, несет в себе тишину, дорога врывается в изумленные, распахнутые Инкины глаза, ветер фамильярно ворошит ее косицы и треплет ворот платья.
Так было месяц назад, а теперь Инка всплывает из воспоминаний, тревожно перебирая узелок с косточками кролика, в голове у нее шумит море, видно, болтливый ветер своими сказками продул ей ухо. Небо молчит ей в ответ прохладным серым утром, спящие соседки нет-нет, да и пугнут задумчивую Инку низким свиным храпом, их вздохи, стоны и сонное бормотание прокатываются холодком по телу.
Потом тишину и уединение прерывают, некогда больше раздумывать, стихия потревожена, начинается ленное пробуждение, сладкие зевки, потягивания рук и шуршание налетающих на плечи бесформенных, цветастых халатов. Чтобы скрыться от женственности во всем ее безудержном цвету, Инка заваливается на бок, натягивает одеяло на голову, а ее самообнаружение сжимается и горчит. Со стороны она кажется себе разбитой женщиной с сиреневой от холода кожей, окаменевшей женщиной, у которой болит голова и нутро, ухо истыкано ядовитыми дротиками, а из соска придавленной левой груди сочится молоко. Со стороны она кажется себе отцветающей розой ветров, розой ураганов которой больше незачем дуть, с которой все уже произошло и больше нечего ждать. Заключенная в склеп нового мира, Инка не знает, как спасаться, куда бежать от тоски, чем ободрить тающего в душе Виракочу, куда деваться от слабости, от нужды и от недоверия ко всей предстоящей жизни. Она дышит в щелочку между одеялом и простыней, а сама жалеет, что оставила на щеке Человека-Краба такой холодный поцелуй на прощание, без надежды на новую встречу. Инка вздыхает: и зачем она так безжалостно щекотнула его скулу пушком щеки, неумело выбралась на улицу и жуком побрела к подъезду, туда, где скрывается гневная соседка Инквизиция, где косые осуждающие взгляды соседей, а жилище убогое, тесное содержит в окнах агонию лета. Правда, около подъезда она все же оглянулась, но Человек-Краб уже унесся в машине, набитой тростниковыми креслами, баулами, сумочками и бусами, увез неизвестно куда самое спокойное время в Инкиной жизни. Вот и сдана без боя крепость вилькабамба, и растаяла без следа лавочка амулетов.
Такое настроение нарушил кошачий визг, к нему присоединился другой, третий. Инку легонько пихнули в спину, когда же она неохотно выбралась из укрытия, вложили в ее растерянные руки тугой кулек, а в нем посапывает существо со светящимся личиком, оно внимательно смотрит на Инку черными, как густой кофе, глазенками. Ничего ей не остается, как оголить грудь – вершину уака Анд. Когда же существо впервые заполучило долгожданный сосок, оно засопело и окутало палату таким ласковым светом, что даже день смутился, стушевался и оказался тусклым. «Уаскаро, Уаскаро, кто бы мог подумать, что умирающая звезда имеет такое воздействие на кожу младенца».
Когда детеныша только-только принесли, Инка была окутана мороком своих бед и печалей. Но потом некогда было предаваться тоске, некогда было зарываться в низины. Скорей выбираясь из подземелий на свет, Инка с интересом наблюдает, как крошечное существо, подобно миллиардам детенышей самых разных видов и пород, припало к груди и тянет содержимое, зажмурив глазенки от удовольствия.
К полудню Инка, закатав рукава, замерла над голым, худеньким детенышем, который упорно продолжает светиться и тем волнует всех присутствующих в палате женщин и младенцев. Инке очень хочется, подобно мудрым лесным матерям, обнюхать и унести беспомощное существо от чужих глаз, от шума и шелеста. Но некуда убегать, надо менять поскорее пеленки, Инка замешкалась, растерялась, а тут еще крошечная ручонка ухватила реликвию, узелок с косточками кролика, капризно отнимает у Инки единственного утешителя и слушателя. При этом детеныш так настойчиво и повелительно мяукает, что несколько крупных муравьев побежали по Инкиной спине туда и обратно. Старается она бережно и нежно реликвию отвоевать, но ручонка крепко держит узелок, не желая отдавать первую игрушку. Осторожно отгибает Инка маленькие пальчики один за другим, а они снова сжимаются, не выпускают, не отдают утешителя. И вот в замусоленной тряпочке что-то тихонько и жалобно пискнуло, вмиг испуганно разжались крошечные пальчики, шевелится узелок в Инкиных руках, ветхая ткань треснула и высунулась на свет дневной ушастая головка белого крольчонка.
Первым движением Инки было стыдливо заслонить, спрятать телом происшедшее, не дать чужакам, случайно оказавшимся в палате, увидеть и сглазить. Она придвинулась, склонилась, просвечиваемая насквозь в тоненькой льняной рубахе, превратившись в горный массив, скрыла происходящее от чужих глаз, пихнула кролика под одеяло, пусть пока отлежится, а там что-нибудь придумаем, как-нибудь выкрутимся – и дрожь трепала ее, как травку треплют ветра далеко-далеко от города.
Инка скрыла появление кролика, но, наверное, она замешкалась или побледнела, а может быть, рубаха ее неприлично просвечивала, только все соседки, все, кто был в палате, перестали шуметь-переругиваться, перестали браниться на яркий свет, не гремели, не топтались, а затихли, застыли и уставились в Инкину сторону. Опять завязывается неудовольствие, снова в воздухе чувствуется неодобрение, уже, наверное, сложили коллективные мифы, а в душе каждая соседка явно готовится к выпаду. Снова Инка знай отражай экспансию, защищай себя и слабое светящееся, еловый чай, существо. Неужели соседки, чье зрение и раздражение обострены от материнства, заметили, как судорожно Инка прятала кролика под одеялом, а если нет, почему тогда все они застыли с пеленками, со стаканами в руках и смотрят в Инкину сторону. Не разберешь, что написано на их лицах – каракули домашней брани или древние, как мир, письмена, повествующие о борьбе за существование, о том, что большие рыбы едят малых, а богатые – бедных, что у всех – разные цепи на шее и разные пищевые цепи на столе. И еще написано много такого, где слова не властны, а властны лишь древние возгласы, заклинания и всхлипы.