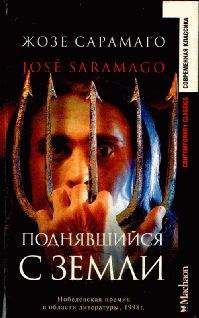По всем латифундиям только и слышно, как собаки лают. Они лаяли, когда между Миньо и Алгарве — между морским побережьем и восточной границей — люди приходили в волнение от одного имени, не то что от речей генерала, лаяли они по-новому, на человечьем языке это ясно означало: Голосуйте за Делгадо [31], новой оплате будете рады, — что поделаешь, любим мы рифмы, мы живем в стране поэтов, — лаяли они лаяли и уже к самым дверям подбираться стали. Сеньор падре Агамедес, если так дальше пойдет, скоро они начнут церкви осквернять, первое, что они делают, — это оскорбляют святую матерь нашу церковь. И не говорите, сеньора дона Клеменсия, и не говорите, хотя я и не отказываюсь от лавров мученика, но Господь Бог не допустит в наших местах таких злодеяний, как в Сантьяго-ду-Эскурал, вообразите себе, они школу в церкви устроили, нет, сам я этого не видел, это давно было, но мне рассказывали. Правда, сеньор Агамедес, это правда, такая же правда, как то, что мы здесь стоим, Господь не допустит, чтобы республиканские безобразия повторились, осторожнее выходите, тут собаки. Падре Агамедес открывает дверь и своим высоким дрожащим голосом спрашивает: Собаки на привязи, и кто-то равнодушно ему отвечает: Эти — на привязи, и потому нам неизвестно, какие на привязи, а какие нет, однако падре Агамедес верит, что его ногам ничто не угрожает, и он выходит во двор — собаки и правда на привязи, — но, выйдя из ворот, он видит толпу народа, лая не слышно, не хватало еще, чтобы люди лаяли, но чтоб мне своего собственного имени не вспомнить, если эти перешептывания не похожи на рычание, а еще падре Агамедес не видел, как вдоль дома ползли муравьи с поднятыми, как у собак, головами, пока все эти звери молчат, но что с нами будет, если однажды они соберутся в одну свору.
Как уже было сказано, урожай в этом году собирать не будут в наказание за упрямство, с которым работники требуют большей оплаты, хотя этому теперь никто не удивляется, и за новое преступление — за то, что поддерживали Делгадо и клялись его именем на всех перекрестках. Мне это совершенно безразлично, сказал Адалберто, я только хотел бы иметь уверенность в том, что правительство одобряет наши действия. Оно одобряет, и мы тоже, мы считаем вашу мысль просто великолепной, сказал Леандро Леандрес. А убытки, сеньор губернатор, ведь будут убытки. Вы можете рассчитывать на нашу добрую волю. Но хорошо, когда все поровну платят, это вполне справедливое замечание произнесено в каком-то неизвестном уголке латифундии, а может быть, и в городе, но где бы то ни было, слово сказано: Не беспокойтесь, сеньор Берто, меры по оказанию помощи сельскому хозяйству уже рассматриваются, чаяния землевладельцев правительству известны, и оно не забудет ваших заслуг перед родиной. Еще немного, и в честь сеньора Берто взвились бы знамена, впрочем, в этом уже нет необходимости, выборы закончились, Томаш [32] президент наш, почему бы и мне не писать в рифму, если другие это делают, а я бы мог сочинять очень приятные стишки, судите сами: Надоело голодать, /Сказала смерть в аду,/ Не буду больше ждать,/ Косить людей пойду, а после того, как эту песню пропели хором, в латифундии установилась великая тишина что будет? — и, пока мы томились, не отрывая глаз от земли, над нами скользнула какая-то тень, мы подняли головы и увидели парящего в небе сокола, его криком прозвучал вырвавшийся из моей груди стон.
Сегодня вечером Сижизмундо Канастро заходил к Жоану Мау-Темпо, поговорил с ним и с Антонио Мау-Темпо, оттуда направился к Мануэлу Эспаде, где задержался подольше. Побывал он и еще в трех домах, два из которых стояли на отшибе, и всюду разговаривал то так, то эдак, к каждому искал свой подход, нельзя со всеми говорить одинаково, потому что в таком случае понять могут по-разному, — а ходит он вот с каким предложением: через два дня всем, кого только можно собрать, идти на демонстрацию в Монтемор и перед муниципалитетом просить работу — она же есть, но ее не дают. Мимоходом говорится и о том, что, мол, за шутники такие выдвинули в президенты нашей жалкой республики эдакого сладкоречивого мерзавца, один был, и хватит, сколько же можно. Горечь во рту у них не от обжорства и не от пьянства, излишествам в этих краях предаются редко, конечно, есть выпивохи и здесь, но извинить их можно — когда человек всю жизнь чувствует себя привязанным к столбу, то курение и выпивка для него просто разные пути бегства, но с вином убежишь дальше, хотя с каждым шагом приближаешься к смерти. Горечь у них во рту от разговоров и ожидания еще более интересных речей, если бы свобода наступила, а она не наступила, кто же видел ее, свободу, столько о ней говорят, но свобода — не женщина, бредущая по дорогам, не присаживается она на камень и не ждет, что кто-нибудь пригласит ее поужинать или поселиться у него на всю жизнь. Походили здесь какие-то мужчины и женщины, «ура» кричали, а теперь у нас во рту горечь, словно с похмелья, печально глядят глаза: хлеб надо жать. Что нам делать, Сижизмундо Канастро, ты у нас самый старый и самый опытный. Во вторник пойдем в Монтемор требовать хлеб для детей и для родителей, которые должны их кормить. Но это мы всегда и делали, а толку что? Делали, делаем и будем делать, раз ничего другого не можем. Никогда это не кончится. Кончится. Да, когда помрем и будем с небес смотреть на свои собственные кости, если какая-нибудь собака выроет их из могилы. Но когда настанет этот день, и живых будет немало, а твоя дочка все краше становится. Глаза у нее как у моего отца, сказала Грасинда May-Темпо, а весь разговор до этого велся с ее мужем Мануэлем Эспадой, который говорит: Я бы душу дьяволу продал в обмен на этот день, и чтобы не завтра, а сегодня, и Грасинда Мау-Темпо берет на руки свою трехлетнюю дочь и выговаривает мужу: Перекрестись, Мануэл, что ты говоришь, а Сижизмундо Канастро, у которого за плечами прожитых лет и опыта побольше, улыбается: Дьявола не существует, контрактов он не заключает, это все только разговоры, которыми работы не добудешь и ничего другого тоже, теперь наша работа — идти во вторник в Монтемор, много народу соберется.
Хороши июньские ночи. Если светит луна, то с холма Монте-Лавре виден весь мир, не подумайте только, будто мы настолько невежественны, что не знаем: мир гораздо больше. Я был во Франции, сказал бы Антонио Мау-Темпо, она далеко, но в этой тишине любой, даже я, поверил бы, если бы сказали: Никакого другого мира нет, только Монтемор, куда мы завтра пойдем просить работы. А если луны нет, тогда весь мир умещается у меня под ногами, и еще звезды, кто знает, может, на них тоже есть латифундии, и потому правит там речной адмирал, сыгравший краплеными картами — нет ничего почтеннее и бессовестнее. Если бы Сижизмундо Канастро приходили в голову подобные колкости и остроты, мы бы посторонились с дороги, сняли бы шляпу, пораженные его образованностью, но на самом деле он думает, что поговорил уже со всеми, с кем надо, и хорошо, что сделал это сегодня, не откладывая на завтра, и потому мы не знаем, как поступить со шляпой, надо ли ее снимать, Сижизмундо Канастро выполнил свой долг, вот и все. И поскольку, несмотря на серьезность предпринятых им шагов, человек он насмешливый и веселый, что не раз уже видно было из нашей истории, он подошел к жандармскому посту, заметил, что дверь закрыта и свет не горит, стал лицом к стене и окропил ее с таким удовольствием и радостью, словно окропил всю жандармерию сразу. Ребячится старик, эта штука уже мало на что годится, но такое она еще может учинить — вот бежит ручеек среди камней, кто бы дал мне побольше мочи, чтобы стоять тут всю ночь, надо было бы нам всем сразу помочиться, и затопили бы латифундию, посмотрел бы я, кто ее спасать захочет. Чудесная ночь, сколько на небе звезд. Он застегивается, веселость его уже прошла, и он направляется домой, играет все-таки кровь иной раз.
Во времена пилигримов говорили, что все дороги ведут в Рим, надо было только идти и спрашивать, так и получаются поговорки, которые потом бездумно повторяют люди, вот еще одна: Язык до Рима доведет, но это неправда, в этих местах дорог много, но все они ведут в Монтемор, и эти люди идут молча, хотя только глухой не услышал бы речи, громко раскатывающейся по всей округе. Многие идут пешком из ближних и дальних мест, если им не удалось добыть лучшего средства передвижения, другие крутят педали старых велосипедов, которые тарахтят и скрежещут, словно повозки, запряженные мулами, а кое-кто сумел пристроиться на грузовик, они приближаются к Монтемору со всех сторон розы ветров, великий ветер толкает их в путь. Стражи замка заметили приближение мавританского войска, подняли знамя с изображением Богоматери, склонившейся над сердцем, язычники идут, сеньоры, берегите ваших жен и дочерей, поднимайте мосты, поистине говорю вам: настал день страшного суда. Это рассказчик, желая блеснуть образованностью, выдумал вооруженное войско и штандарты кавалерии, а речь идет всего лишь о неорганизованной толпе сельских жителей, и если сосчитать их всех — то и тысячи не наберется, хотя и это много для этой норы. Но всему свое время, осталось еще два часа, и, пока Монтемор — обыкновенный город, где народу несколько больше обычного, они бродят по ярмарочной площади, те, кто при деньгах, выпивает рюмочку, остальные тихо разговаривают: Пришли уже из Эскоурала? Не знаю, мы из Монтемора, немного нас, правда, но мы пришли. Среди них есть одна женщина, Грасинда Мау-Темпо тоже захотела пойти, в наше время не умеют женщин в узде держать, так думают старики, но ничего не говорят, а что бы они могли поделать, если бы услышали: Мануэл, я пойду с тобой, и Мануэл Эспада, хоть нам и известно, что он за человек, решил, будто жена шутит, и ответил — его устами ответили тысячи Мануэлов: Не женское это дело. Мужчине следует говорить осторожно, не бросать слов просто так, иначе его перестанут уважать и авторитет он потеряет, да, это правда, несмотря на то, что они, Грасинда и Мануэл, так любят друг друга. Они проговорили весь вечер, говорили и в постели, и дело Грасинды продвинулось: Девочка останется с мамой, а мы пойдем оба, разве мы только в постели должны быть вместе, и в конце концов Мануэл Эспада сдался, и сдался с удовольствием, обнял жену и притянул к себе, они ведь муж и жена, девочка спит и ничего не слышит, и Сижизмундо Ка-настро спит в своей кровати, он добился того, чего хотел, может, в следующий раз еще лучше получится, нельзя же на этом останавливаться, черт побери.